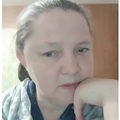Марина Якимович (Марина): Владимир, я благодарю Вас за согласие дать интервью. Расскажите моим читателям о себе. Расскажите о своей родительской семье. Я знаю, что Ваша мама была врачом, а отец погиб на фронте, но расскажите обо всём подробнее. Где и как прошло Ваше детство, что запомнилось?
Владимир Гоммерштадт (Владимир): Благодарю Вас, Марина, за, ничем не заслуженный, интерес к моей тщедушной персоне!
Я был семейным божком (со всеми вытекающими из этого последствиями крайнего эгоцентризма, патологической обидчивости, крайней распущенности — жизнь пообломала края этих крайностей, но, чем богаты тем и рады: приходится довольствоваться наличным, адаптируя к реалиям жизни). Семья состояла из меня, мамы и тёти — старой большевички (был такой термин, внушавший предельное уважение), потерявшей в войну своего единственного сына, обратившей свои уязвлённые материнские чувства на меня: сын Юлик ушёл добровольцем на фронт по причине полной беспризорности, тётя с головой была в общественной работе. Жили мы в Москве, в Орлово-Давыдовском переулке, тетю звали Лия Давыдовна. Её мужу, герою гражданской войны Василию Котенко, стоял памятник в далёкой Якутии, а якутские ученики школы его имени присылали детские поздравления, альбомы с образцами тундровой флоры и фотоотчёты о своей пионерской жизни. Я был «славный мальчик Вовочка», так подписывались книжки, которые дарили бородавчатые тётины сопартийные подруги, а я их, зажмурившись, целовал (согласно предложенному ритуалу), изначально, я был действительно славный, послушный, доверчивый… Отец, в моей жизни, фигура мифологическая — он погиб за несколько месяцев до моего рождения. Мама, человек невероятной энергетической силы, окутывала меня почти богородичною любовью, тем болезненней было оказаться, в соответствии житейским реалиям, в детсадовских коллективах. Потом была, всё более ненавистная, школа и материнская тирания, с желанием сделать меня удобным для себя и общества. Тема детства, задающего ложные, не изживаемые ориентиры, так и застряла в горле — ни проглотить, ни выплюнуть, ни слова не скажешь… промычишь лишь маловразумительное.
Марина: Расскажите о том, как сложилась жизнь дальше. Какой и кем был выбран вуз после школы?
Владимир: Окончив первый класс на отлично, четвёртый — с двумя четвёрками (тогда была мода награждать успешных учеников памятными книгами: на школьной фотографии свечусь подбитым глазом) в подростковую ломку я вошёл абсолютно неподготовленным, учился достаточно плохо (классе в восьмом была переэкзаменовка по русскому языку). Поэтому моя увлечённость рисованием, случившаяся об эту пору, была воспринята близкими, как спасение чести семьи. Да и мой ангел-хранитель несколько обнадёжился — как то само-собой сложилось, что стал ходить в изостудию; двумя этажами ниже, в дружественной семье, была художница, благодаря которой легко удалось преодолеть обывательскую вкусовщину самонадеянной родни и подготовиться в проходимое для моего уровня «умелой неумелости» художественное училище, где живописи и рисунку, к моему глубокому огорчению, уделялось, не так уж и много времени.
Через десяток-другой лет, вновь оказавшись в стенах МТХТУ из-за необходимости получить какую-то канцелярскую выписку, слегка прибалдел, увидев свою курсовую работу в витрине эталонных образцов, припомнив с каким скрипом четвёрку за неё получил. Учился я неряшливо, много прогуливал, был на грани вылета, перевёлся с гримёрного на бутафорское отделение, брал академический отпуск, дипломную работу едва завершил, словом, доверия к своим способностям никоим образом вызвать не мог. Думаю, что это качество — «недосоответствия» — сквозною нитью идёт через всю мою жизнь. Зная это, никогда не притязал всерьёз называть себя ни художником, ни поэтом. Называют, не возражаю, внутренне проговаривая: «знали бы вы…».
Марина: В самокритичности Вам не откажешь. Какие книги Вы читали в детстве, что было любимым? Как случился Ваш приход в поэзию?
Владимир: Почему-то раннедетские: Чуковский, Маршак, Барто… кстати, сплошные стихи… живут во мне более глубинной жизнью, чем последующая детская проза. Русские сказки с сюжетными наворотами оставили свой след. Первый опыт стихоложества, где-то в четвёртом классе — «За одну с тобою парту посадили нас/ В тот же миг отсел я от тебя/ И жалел об этом после этого/ И жалею я об этот и сейчас»— любовная лирика (предполагалось что это песня). Я бы и сейчас взял отсюда блочёк:«Об этом? После этого — давно всё фиолетово!» Тогда же я изводил учителей навязчивым повтором фразы: «Бáшки-мáшки, страсти-то какие!»… вполне себе текст. В классах 7-9, не помню с какой-такой стати став социально озабоченным, ваял: «Чёрное солнце душит зноем/ Расплавлен город — течёт асфальт/ Человек, насекомое злое,/ Жизнь твоя —фальш!». Продвинутый одноклассник, комсомолец-отличник, ознакомленный с моими поэтическими дерзаниями, экзальтированно воскликнул: «Да это же — маразм!» Слово показалось настолько серьёзным и созвучным внушающим уважение терминам: марксизм, монизм, махизм… равно непонятным и убедительным в своём звучании, что я, первоначально, возгордился, решив, что соответствую некоему современному поэтическому направлению. Впрочем, в значительной части написанного, я и сейчас этому «направлению» вполне соответствую. Но… руки и мозги не должны быть связаны: многое из той похабели, что я понаписал, заостряет ассоциативный слух при доработке настоящих стихов. Их у меня не так уж и много, однако левые слуховые и
смысловые подголоски, в значительной степени отфильтрованы.
Марина: Это интересно. Расскажите моим читателям о том, как случилось восхождение от «маразма» и «похабели» к тем великолепным стихам, которые мы читаем сегодня?
Владимир: Был период большого интереса к живописи. Мои картинки, казалось, попадали в разряд исканий современного искусства, с другой стороны, чувство природы в пейзажиках вполне себе встречало ответный отклик—рядом на долгие годы появились люди намного лучше меня разбиравшиеся в искусстве. Отношения были более чем доверительные — я не стеснялся показывать любые свои почеркушки, получал исчёрканные свои распечатки с толпами восклицательных и вопросительных знаков, не способных выразить всю меру недоумения… но два-три слова, случалось, были подчёркнуты, а иногда и целая строка, и это означало, что Муму литературной сопричасности плывёт мне навстречу и готова, обняв как родного, ввести в глубины творческой жизни. С другой стороны, два-три раза я был подвергнут такой жестокой порке, что по нескольку лет не мог и слова написать, зато, оклемавшись, почти отучился позволять себе ставить приблизительные слова.
Марина: Итак, живопись и поэзия. Скажите, как Вы позиционируете себя? Вы живописец, который увлечён ещё и поэзией или поэт, который иногда пишет картины? Какая из форм Вашего самовыражения первична?
Владимир: Как художник я вполне уже скончался. Той минимальной энергетики, которой требует это призвание, у меня давно нет. Время от времени я позволяю себе те или иные резвости в Фотошопе, очень редко, в компании любящих покалякать более-менее близких людей, пытаюсь что-либо изобразить или набросать, удивляясь, что что-то ещё получилось.
Марина: Скажите, Владимир, Вам стихи даются легко? Как Вы находите темы? Что их подсказывает? Какая тема случается чаще? Что Вас волнует?
Владимир: Я иду не от смысла, а от слова — это конкретное слово, сочетание слов, фраза, которая звучит как голос с другого надъобыденного уровня, жду когда другие слова к ним подтянутся, по некоторым стихам вижу, что прошли десятилетия… На каком-то этапе проклёвывается смысл и мне он интересен, потому что пришёл сам — я его за уши не тянул.
Забавно: желая привести в качестве примера стихотворение, сложившееся за тридцать лет из набора бессмысленных фраз, обнаружил его в интернете под чужим именем: "Серебряное мое молчание" Жора Разумов
Серебряное мое молчание
Нечаянное...
Молчу.
Вздохну ли —
В плену отчаяния
Беззвучное
Лепечу.
И чутко, и чисто —
Хрустальное,
Неведомое —
Звенит...
Задумчивое,
Печальное,
Нежнее листвы молитв.
Причудой небесного зодчества
Окажешься —
Пусть на миг —
Соборности одиночества
Единственный
Ученик.
Марина: А вот это ещё интересней. Ваше отношение к плагиату? Вас это оскорбило? Удивило? Расстроило?
Владимир: У этого же «автора» я нашёл ещё два стихотворения, очень качественных (как выяснилось, тоже «заимствованных»). Согрело сердце, что мой стиш оказался в такой шикарной компании. А так… Нэ! Нэхорошо!
Марина: Скажите, у Вас случается брак? Что Вы делаете с текстом, который не родился? Оставляете «дозревать» или выбрасываете и забываете?
Владимир: Ежели по гамбургерскому счёту, брак это девяносто шесть процентов написанного мною: либо на злобу дня, либо шуточки-прибауточки вполне себе бездумные, или, так сказать, рифмованные комментарии на полях. Случаются и там две-три блёстки, «и я вздохнул: ну, пусть живёт…». Когда я пытаюсь навести в чём-либо порядок, непременно выкидываю то, о чём потом искренне сожалею. Упорядоченность, в моём случае, враг творчества, беспорядочность — не меньший, но враг ласковый. Я очень бережно отношусь к опечаткам, зачастую это великолепные подсказки, изменение ракурса видения.
Марина: Скажите, Вы когда-нибудь пробовали творить, перенимая манеру любимого поэта? Например а-ля Есенин или Рубцов? Получалось?
Владимир: У меня нет любимых поэтов. Есть стихи, которые в конкретный момент близки и внутренне созвучны. А-ля бывало и даже получалось. Однажды я переписал стихотворение Ходасевича в виде набора пустопорожних слов, сохраняющих лишь звукопись оригинала, затем заменял их всё более осмысленными словами. Если не ошибаюсь, получился этот стиш:
Тихо. Колокол спрятал язык.
Всё тускнеет: и берег, и море…
Позолота пустых колоколен,
и – кресты на могилах простых…
К туче клонится солнечный лик –
неказист, по-сиротски бездолен.
Ветер, ласков и самодоволен,
чуть небрежно коснулся гвоздик.
Здесь природы и зов, и закон.
Ну, куда от влюблённости деться?
Ветер пахнет корицей и детством
за окном, что распахнуто в сон.
Марина: При написании стиха, что самое сложное? Поиск такой рифмы, чтобы не повториться? Или создание индивидуальности текста: попытка его сделать не похожим ни на чей, и чем-нибудь запомниться?
Владимир: Самое сложное не спешить… иначе приходится в большом текстовом блоке, с трудом вылавливать два-три живых слова, дать голове очиститься от прилипчивых смыслов, ждать свежего дыхания и в нём различать слова.
Марина: Владимир, расскажите о Вашем отношении к современному русскому языку и к изменениям в нём. Ни для кого не секрет, что язык – живая материя, но перемены в нём воспринимаются по-разному. Есть люди, которые легко встречают новый сленг. Они сами тут же заменяют наречие «замечательно» наречием «круто» или «клёво», существительное «суть» существительным «фишка», глагол «понимать» глаголом «догонять» и т.д. Есть люди, которые, напротив, очень тяжело воспринимают подобные новшества. Как на это смотрите Вы?
Владимир: Время от времени из меня выпрыгивают удивляющие меня словечки, я их записываю,
иногда они сразу идут в дело, но, чаще, вылёживаются, случайно на них натыкаешься свежим взглядом, правишь, к ним притягиваются другие слова, удивляешься появившемуся вдруг смыслу — они живут своей жизнью, я стараюсь им не мешать и с интересом наблюдаю… К «сленговщине» отношусь с живым интересом, когда ситуация позволяет расспрошу поподробнее о «ньюансах»; сожалея о своём недопонимании, рыщу по словарям — не исключено, что это самое интересное для меня чтение: словари. Обожаю слово: «типа» за его снисходительное всепрощение. Готов трансформировать, искать сочетаний: «клёво выклеванный подсолнух…»
сейчас в голове проклюнулось. Но, как поэтическая заготовка, скорее, сгодится: «клёво выклеванный воздух»!
Окутанный прекрасным многословьем,
пленяющей игрой нечётких рифм,
ту книгу притулил у изголовья,
свой не решаясь чувствовать язык.
Так и уснул.
И сон был молчаливый.
Но утро разбудило:
— На, бери!
Вот — слово!
Записал.
И терпеливо
весь божий день
листаю
словари.
Марина: Спасибо. Скажите, Владимир, вопросами «а не графоман ли я? стоит ли хоть чего-нибудь то, что я выражаю?» задается каждый уважающий себя человек. Как Вы думаете, где искать ответа на этот вопрос? В самоанализе? В квалифицированном мнении со стороны?
Владимир: Право на творчество есть у каждого человека. «Нам не дано предугадать…» Сколько существует замечательной мемуарной литературы, где литературная неискушённость оказывается решающим стилистическим фактором достоверности и подлинности. Зачем душить творческий импульс надуманным вопросом соответствия чему-то там… он должен быть реализован. Это часть жизни. Захотелось одеть это вот платье сегодня. Право на ошибку освобождает личность от оков лжи — на ошибках учатся.
Марина: Не кажется ли Вам, что чем образованнее автор, чем больше он набит бродским-маяковским-самойловым, тем сильнее сомнение в собственном потенциале. И наоборот, чем меньше литературных примеров, тем увереннее человек, потому что ему не с чем сравнивать?
Отсюда вопрос: полезно ли глубокое знание литературы? Не вредит ли оно самооценке, ведь на начальном этапе графоманы все.
Владимир: Ну я-то уж точно: в силу своего невежества (неискушённости — скажем мягче) прошмыгнул в святую обитель искусства. Рисовать начал цветными карандашиками где-то лет в четырнадцать-шестнадцать, увидев в журнале «Америка» очень качественную репродукцию картины Ван-Гога «Звёздная ночь». Я «словил импульс». И оказалось — что цвет из под моего карандаша тоже импульсирует, контактирует со мною, что это… диалог! А стихи, в подавляющем большинстве, стали «доходить» до меня, лишь когда более-менее настоящих своих понаписал. Но, есть же и трепетные литературоведы, которым творческий импульс говорит: не отвлекайся на «своё», здесь— много бóльшее— «наше»!
Марина: Давайте поговорим о Вас. Скажите Владимир, Вы тщеславны? Есть желание быть знаменитым, иметь узнаваемый почерк?
Владимир: Как человек не уверенный в себе, мнительный и скрытный, маскирую своё тщеславие даже от себя. Быть знаменитым — это работа, а я ленив. Те три-четыре публикации, что у меня были, состоялись благодаря, отнюдь, не моим усилиям. Моё встревание в литературу произошло как-то помимо моих волений— в больнице лечащий врач предоставил мне во внерабочее время кабинет, чтобы я мог рисовать. Вскоре подтянулся народ потусоваться— в конце концов главврач прикрыл эту лавочку, но я успел сдружиться с одним из тусовщиков, литератором. Он поинтересовался не пишу ли. Я дал ему почитать свои дневники, которые тогда вёл, он предложил попробовать написать рассказ… Ему мои рассказы не нравились, но один из них приглянулся другому моему знакомому, у которого были связи в журнале «Советская женщина», и рассказ был протиснут в рубрику «Читатели пишут»… на японском языке. Я получил гонорар и узнал что для японцев я —Уради́миру Комирушютáто.
Марина: И Вы стали писать прозу?
Владимир: Да. И, исподвольно, стала нарабатываться чуткость к слову. Гиперответственность, присущая мне, не раз и не два проделывала эту злую шутку — уж лучше не делать вовсе, чем делать плохо. Пиши-ка ты, братец, стишки — авось, в трёх соснах не заблудишься.
Марина: Скажите, Вы легко идёте на общение, или коммуникабельность не Ваша черта и хотелось бы, чтоб все оставили Вас в покое?
Владимир: К сожалению, культура пауз отсутствует в нашей сообщительности. Крайне редко доводится услышать, что говорит данная целокупность собравшихся — соборное начало, пусть бы и двух человек. Это обессмысливает общение, к которому я отношусь с религиозным трепетом, увы… практика жизни показала — лучше пусть оставят в упокое. Но, на коротких отрезках, почти любое общение освежает.
Марина: Кроме поэзии и живописи чем Вы любите заниматься?
Владимир: С детства природа в моей жизни то, с чем-кем контакт несёт некую важную бытийную информацию. Я люблю ландшафтничать: обживать в лесу своё место, прокладывать путь солнечным лучам, дыханию ветра… «другая часть работы — смотреть на облака и ни о чём не думать…»
Марина: И Вам не страшно? Медведи, росомахи, кабаны тоже любят «ландшафничать» в лесу. У меня, например, нежелание встречи с ними подкреплено убеждённостью в несостоятельности моих аргументов.
Владимир: Острастка конечно нужна. Я далеко не знаток звериных повадок. Но, думаю, серьёзный зверь чует, что это чужое место и любопытствовать попусту едва ли станет. Однако, без костра заночевать в диком лесу едва ли решусь… А вот иссине-чёрную красавицу гадюку, пытавшуюся обжить моё место, пришлось убить.
Марина: Как Вы думаете, почему люди страдают?
Владимир: По своей жизни знаю, что многое надо было именно выстрадать — получить как благостный плод страдания. Человек коснеет в своём благополучии… То же, наверное, можно сказать и про Народ.
Марина: Я хочу спросить Вас о любви. Что это такое? Это рабство? Счастье? Наказание? Что нужно, чтобы любовь (случившаяся невзаимной) не оставила выжженное поле?
Владимир: Как человек, промотавший этот дар, что я могу сказать? Испытание!
Марина: Давайте поговорим о деньгах, вернее, о больших деньгах. Скажите, деньги – это свобода или порабощение? С одной стороны, деньги – это решение многих вопросов до того, как эти вопросы образуются в проблему. А с другой – неизбежность подозревать окружающих в меркантильных мотивах общения с тобой и, как следствие, потеря лёгкости в общении, подспудный страх, в дальнейшем - одиночество. Кто менее разрушен, олигарх или бедняк?
Владимир: Марина, как олигарх олигарху, надеюсь, Вы меня поймёте: приходится косить под бедняка, чтобы сохранить себя от внешнего и внутреннего разрушения меркантилизмом.
Марина: Какую литературу Вы читаете? К каким книгам возвращаетесь? Бывало ли, что какая-нибудь книга «переворачивала» Вас? Какая книга приводила Вас в восторг, и Вы советовали друзьям и близким её прочесть?
Владимир: Я всегда искал «учительной литературы», понимая, что ничего не смыслю в жизни. В юности поставил себе задачку прочитать наиболее именитых авторов, и решал её самым тупым образом: форсируя по шестьсот страниц за день. После такого самоистязания проще стало что-то написать самому, нежели пытаться понять в написанном другими.
Марина: Владимир, скажите, что нужно обязательно успеть сделать любому человеку? Что важно не упустить?
Владимир: Пока есть состояние диалога с Жизнью успевать ничего не надо — главное при тебе.
Марина: Скажите, Владимир, Ваше становление и зрелость прошли в Советском Союзе. Расскажите моим читателям о своем отношении к советскому времени? Вам жаль, что оно ушло, или это хорошо, что всё закончилось? О чём утраченном Вы жалеете и каким переменам рады?
Владимир: А что закончилось? Ложь и лицемерие на всех уровнях! Не дай бог прикоснуться к политике. Страх смотрит из всех углов. Мошенники и воры — эталон для подражания. Зябкое, тревожное ожидание перемен… Всё то же. Разве что, в ожидании зябкости поприбавилось.
Марина: Ну и последний вопрос. Эрих Мария Ремарк сказал: «И что бы с вами ни случилось —
ничего не принимайте близко к сердцу. Немногое на свете долго бывает важным.» Скажите, Владимир, что важным быть не перестаёт? Что в жизни значимее всего?
Владимир: Ремарка «Марии», по своему, точна. Здесь ключевое слово — «немногое»… Хотелось
бы остаться в рамках этой целомудренной недоговорённости. Иначе придётся мне что-нибудь
пафосное навернуть… Есть в моём внутреннем лексиконе термин «божественная ощупь» — это о
трепетности прикосновения к реалиям жизни: физическим, ментальным, какие там они ещё
бывают… ко всяческим. Искусство, в сущности, этому учит. Трепет — тот же «страх божий» —
его бы сберечь.
Марина: Я благодарю Вас, Владимир, за откровенность и уделённое мне время.
Владимир: И Вам спасибо, Марина! Кто бы меня, убогого, стал слушать…
25.03.2021г
***
Был пасмурный день потускневшего лета.
В серебряной роще вечернего света,
В свеченьи берёзовых слёз,
Я думал о том, как уходят мгновенья,
В которых рождаются стихотворенья,
Которые сердцем поёшь.
Как серость графита, легко серебрится
Печали божественной серая птица,
И я её медленно нёс.
Но в клетке груди моей ей слишком тесно,
И наше единство на миг лишь уместно —
В серебряных слёзах берёз.
Владимир Гоммерштадт
Дорогие читатели, вы можете задать свой вопрос Владимиру. Мой гость ответит на все. Автор лучшего вопроса будет премирован 50-тью серебряными монетами.