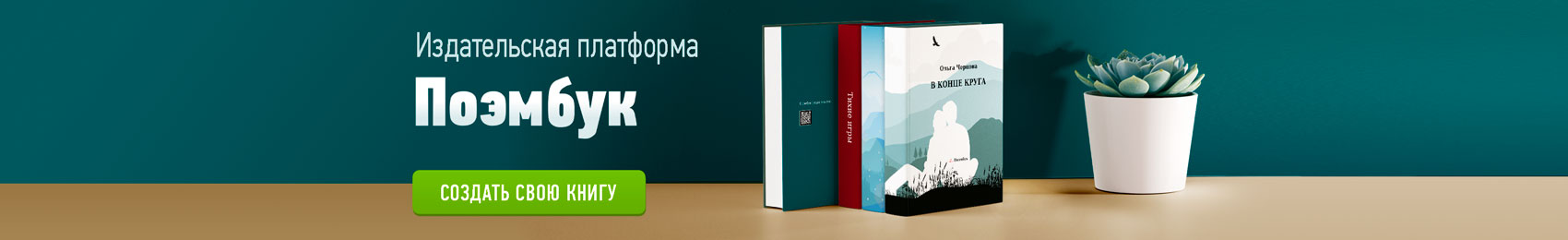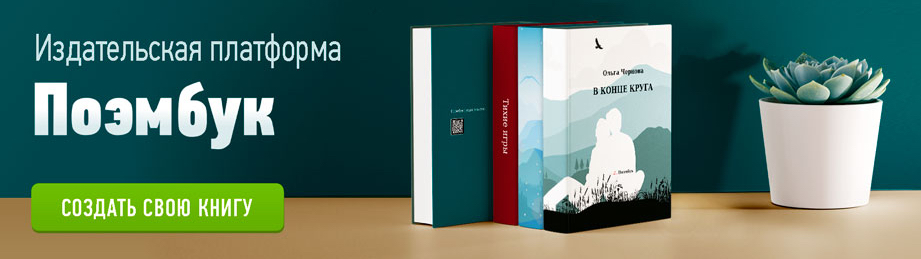Альбом
АльбомАнонсыИщу критика!Интервью с...Литературная ГостинаяДа или Нет?Около рифм#Я стал богаче...Редакторский портфельПоэтическое обозрение с Борисом Кутенковым

Поэтическое обозрение с Борисом Кутенковым
21.01.2025
Поэтическое обозрение с Борисом Кутенковым
Предисловие:
Приступая к этому разбору десяти участников конкурса «Поэмбука», хочется проговорить несколько вещей – частью важных, а отчасти самоочевидных:
1) Перед вами неангажированный опыт разбора: дорогие участники, я никого из вас не знаю, а если кого-то знаю, то приятно удивлюсь. Не в курсе самого конкурса и распределения мест на нём – простите, не удосужился поинтересоваться, но, возможно, это и к лучшему, опять же, в целях чистоты опыта. Некоторые из вас под псевдонимами, больше похожими на никнеймы, – по-моему, не стоило бы так, но вам виднее.
2) Вкусовые оценки и ссылки на личный опыт здесь неизбежны – за них не извиняюсь. Я не раз говорил о том, что лучшая критика всё-таки не «выключает» читателя (который «запал» и «подсел»), сочетая его присутствие с профессиональной филологической базой. Собственно, есть и то, что может показаться личными штампами – например, разговор о составной рифме, который вы увидите во всех комментариях. Или, например, рефлексия по поводу цикличности, о чём много думаю. Но это уж, как говорила Ахматова (со ссылкой на Раневскую), «мои мули» – то есть то, что к тебе накрепко привязано. И в каком-то смысле – в отношении составной рифмы – речь идёт о системной ошибке, присутствующей в стихах этого конкурса. Да и не только его.
3) В продолжение пункта 3 – помните, что эта критика субъективна, как и всякая критика. Быть слишком послушным по отношению к ней – вредно для самостояния (которое известно что, по Пушкину). Призадуматься, но «перевоевать по-своему», – вот это уже ближе к характеру поэта.
Надеюсь, чтение моих комментариев окажется для вас столь же интересным, каким было для меня само участие. Некоторых новых авторов я для себя открыл; к их подборкам, если встречу в периодике, обязательно присмотрюсь – а это для меня самый важный результат участия в подобных конкурсах.
Удачи!
Ваш Борис Кутенков
Яренск
Елена Тютина-Уварова
Он тихим был, но в голосе его звучала мощь не арфы, а кимвала –
казалось, даже вьюга оттого молилась и по-бабьи завывала.
Он говорил: «Когда восстала мгла и смерть глядела жадно и пытливо,
металась лихорадочно ветла, скрипела обессиленно олива.
Сплетались страх и плач, хамсин и пыль. Прошенья были... Были бесполезны.
С небес глядела мрачная Рахиль на правнуков, блуждающих у бездны».
Подсев к печи, к желанному теплу, он кутался, надрывно сухо кашлял.
Вечерний снег, стекавший по стеклу, от голода казался манной кашей.
Но голод не страшней доносов, лжи, пока здесь пахнет домом сладковато,
пока письмо от матери лежит в кармане залоснённого бушлата.
Сверяя речь с исписанным листком, замёрзшие ладони растирая,
он говорил: «Представьте за окном Голгофу вместо ветхого сарая.
Покуда мрак плодился в суете, рассаднике страданий и печали,
где Бог висел, распятый на кресте, неузнанный своими палачами,
где в душах было скверно и темно, где солнце почерневшее страшило,
уже рвалось в завесе волокно, уже в века летело: «Совершилось!»»
Он кашлял вновь, бумагой шелестя. И, просочившись в запертые двери,
сквозняк, как непослушное дитя, раскачивал подобие портьеры.
Привычная за много горьких лет дверная щель, в мороз, была, как жало.
Но то, что согревало Назарет, и ссыльный Яренск тоже согревало.
Нам было слышно, как издалека бежит впотьмах собачья злая стая.
Но белый свет спускался с потолка, слепил глаза, кружился и не таял.
Стихотворение Елены Тютиной-Уваровой пронизано исторической памятью. Можно сказать, что перед нами личный автофикшн – далёкий от документалистики, вряд ли списанный с натуры, но при этом не вымышленный: чувствуется, что всё это живо волнует автора. Представленный текст вновь даёт возможность порефлексировать на тему документальной литературы и вымысла, их сложного сочетания, привнесения особой интонации и писательского ракурса в то, что далеко от fiction.
Автору не откажешь в определённом мастерстве: «металась лихорадочно ветла, скрипела обессиленно олива» – строки, затягивающие в поток суггестии. Версификационная сторона здесь вообще на довольно хорошем уровне. Из недостатков стихотворения – когда появляется дидактическая нота, сразу же спадает энергия. «Но голод не страшней доносов, лжи…» – здесь вместо музыкального начала возникает тяжеловесность, строка перегружена согласными. Ещё – в начале стихотворения не нужно бы заканчивать первую часть второй строки на слове «оттого», оно не несёт семантической нагрузки, не должно выделяться в ударной позиции – всё это провисания смысла, связанные с попыткой «впихнуть» готовый смысл в готовый размер: типичная ошибка авторов этой десятки, к которой я буду не раз возвращаться на протяжении разбора. В дальнейшем с этим нужно обходиться осторожнее.
И последнее – посоветовал бы реже использовать грамматические рифмы («листком / окном», «суете / кресте») – они почти неизбежно примитивизируют стихотворение, нужен высочайший уровень мастерства и образа, чтобы мы могли их не замечать. Думаю, что автор к этому ещё придёт.
васильки
Су Катя
То стираются, то проступают лица.
Васильки по пшенице.
- Не надо, не порти хлеб.
Мне всё кажется
/керзится, мама, млится/ -
всё вернётся, если нарвать букет,
прополоть это море пшеницы спелой,
/провести гребёнкой по волосам/.
Прогремит к водокачке с угора велик,
и покроется снова кипенью белой
деревенских садов полоса.
Разольётся туча над полем ливнем,
смоет пот с уставшего тела,
читай - души,
и сверкнёт очами пророк Илия,
словно небо
на память дагерротип
оставляет.
На нём мы - уставшие, сонные детки -
как воробушки жмёмся,
рассевшись на старых жердях,
огородом бежит белобрысый трёхлетка
с васильками, зажатыми в кулачках.
Синеглазое облако закрывает
от меня лицо,
размывается этот слой.
Светлый мальчик бежит, взлетая,
и земли не чувствует под собой.
Кажется, что это стихотворение могло бы стать частью цикла: есть ощущение фрагмента, недостаточности в качестве целого, несмотря на подробность описаний. Возможно, такое впечатление создаётся из-за нераскрытости потенциала стихотворения – пока перед нами хорошая, добротная, изобилующая удачами, но всё же не более чем пейзажная лирика; картина, метафизические возможности которой превышают замах получившегося текста.
Тем не менее, отмечу те самые удачи, связанные, например, с вкраплением прямой речи (фраза «не порти хлеб» – ёмкая, лаконичная, погружающая в ситуацию, в контекст воспоминания). Такие моменты беспроигрышно действуют как выход из описательности и ровности – впрочем, нужна ли стихотворению «беспроигрышность» на любом уровне, вопрос дискуссионный. Отметил бы также ненавязчивые аллитерации – «тела», «полем», «ливнем». Последние два слова, «полем» и «ливнем», синтаксически разноплановые, даны в тесном соседстве, отчего создаётся ощущение единства, неразрывности картины.
Есть определённая магия:
всё вернётся, если нарвать букет,
прополоть это море пшеницы спелой,
/провести гребёнкой по волосам.
Пожалуй, это лучшие строки, на которых стихотворение взлетает.
Вообще, нужно сказать и об умении перейти от земного, конкретного, описательного – к укрупнению картины, видимости невидимого («размывается этот слой», пишет автор). Но думаю, в этом направлении ещё есть куда двигаться.
Буратино
Скачко (Полеви) Елена
Ванька и Дина хоронят хомяка, строят ему мавзолей.
Дети впервые увидели смерть – и она им противна.
Девочка, как мать, махнула рукой: «Налей!»
и залпом выпила лимонад с дурацким названием «Буратино».
Мальчик ладонями утрамбовал сорный сырой песок,
сверху воткнул сплетённый из прутьев крестик.
«Ванька, а ты не знаешь, что такое усоп?
Мамка так говорила, когда умер сосед Колесник…»
Ванька пожал плечами, поднял разболтанный самокат,
вытер робкие слёзы засаленным краем футболки.
«Знаешь, Динка, я больше никогда не заведу хомяка,
а ты поклянись мне, что жить будешь долго-предолго!»
…Много дождей утекло с того хмурого четверга.
Динка сбежала от матери – растворилась в столице.
Ванька остался. Заматерел. Смотрит на мир из окон грузовика.
Стольких с тех пор схоронил – впору со счёта сбиться.
Мыло, хлеб, керосин возит по пустеющим деревням,
сыр, колбасу и водку – на очередные поминки.
Бывает, что возит гробы. Но не проходит и дня,
чтобы Ваня не думал про пряное лето с Динкой,
когда мальвы цвели у плетня и будили всех соловьи,
когда смерть ещё не стала такой вот замшелой рутиной,
а лёгкие слёзы то ли первого горя, то ли первой любви,
были с привкусом тёплого,
липкого, как липовый мёд, «Буратино».
…Дождь после солнца грохочет, как божеский дырокол,
Ваньке бы тоже сбежать от хляби, да врос пуповиной.
Трудно вот только хорошему парню в стране дураков
без чудес и Мальвины.
В этом стихотворении как будто предусмотрены два варианта концовки – лучшие, чем имеющийся. Это строка «липкого, как липовый мёд, “Буратино”» – акцентированный финал, логически обусловленный, и строка «а ты поклянись мне, что жить будешь долго-предолго!». Кажется, второй вариант даже лучший – он создаёт определённый простор читательских интерпретаций, «замыкает» (в лучшем смысле) историю в собственных границах, но при этом границы условны и не противоречат свободе: сюжет способен восприниматься читателем многообразно. Этой истории не нужно никаких выводов; финальный катрен стихотворения – искусственно привнесённый, пытающийся расставить какие-то мнимые точки над «у» (верно, что оно, по Маяковскому, в этом не нуждается), сделать умозаключения, которые чаще всего мешают стихотворению. Вообще, такие строки, как «Дети впервые увидели смерть – и она им противна», излишни. Пусть читатель сам это почувствует: меньше разжёвывания, больше ассоциативного подтекста. Как говорится, если надо объяснять – то не надо объяснять, можно легко впасть в тавтологию; скажем, эта строка явно избыточна, ведь не скажешь же, что смерть приятна, вызывает наслаждение и так далее.
Сам сюжет интересен, но специфического начала поэзии тут не чувствуется: вполне можно было изложить это в виде прозы или разговорной речи. Поэзия в первую очередь – не слова, а то, что за словами, то, что больше идей. Я бы в первую очередь посоветовал автору порефлексировать над понятием поэзии и попыткой впихнуть в размер готовые смыслы; рекомендую в качестве «противоядия» книгу Бенедикта Сарнова «Заложник вечности» о Мандельштаме (1990), особенно рассуждения о природе звука в поэзии в связи с Мандельштамом и Маяковским, и статью Елены Невзглядовой «Уменье чувствовать и мыслить нараспев» о поэтической интонации. Обе работы доступны в Сети.
ЛИСЬИ СТРАХИ
Кицунэ
…и в глазах у борзых
шелестят фонари — по цветочку,
кто-то вечно идёт возле новых домов в одиночку.
И. Бродский
…где топят по-чёрному, въедливым дымом дыша,
и где по щелям догнивают смола и солома,
где греют еду и ладони, но зябнет душа,
и лисьего духа не любят, и лисьего дома.
Е. Лапшина
I
Еле-еле в обед моросило,
Ноября не увидишь в упор.
Лисью шапку давно относила,
Лисьи страхи ношу до сих пор.
Лисья шапка — наивное детство.
Завязала на бантик — вперёд.
И не знаешь позорного бегства,
И не целится в спину ружьё.
Дождь в предзимье становится колким,
А сейчас ни дождя, ни стыда.
Как тогда поцелуешь иконку,
Но внутри пустота… Пустота…
II
приснилось
что я была колоколом
на полуразрушенной колокольне
и меня били
били
били
я проснулась
с мечтой позвонить в колокола
я была счастлива
III
Меня не допустят к причастию,
Хоть вывернись в храме пустом.
Красиво во мраке свеча стоит
И дразнится рыжим хвостом.
Крамольно любить не положено,
Не каяться — хуже вдвойне.
И видится Царствие Божие
Сквозь след на иконном стекле.
IV
пока сворачиваюсь клубком
и зализываю раны
вспоминаются несчастные глаза борзых
колокольчики
на мягких пушистых шеях
собаки не хотели меня кусать
их просто так воспитали
мама раньше тоже
звала меня
«пушистиком»
V
Не такая, как все, — веский повод сгореть от стыда.
Тут не гордость нести, а выискивать в лужах похожесть.
Раз неправильно любишь, точи поострей карандаш,
Запиши все грехи — в мелких надо покаяться тоже.
То ли я порыжела к зиме, то ли стыд мой горит,
То ли душу украла у Бога, и вспыхнула шапка.
Мама скоро вернётся. Мы будем сквозь сон говорить,
Узнавая приход ноября по стучащему шагу.
Пропущу колокольного звона раскатный призыв,
Мама будет считать: сколько лет я уже не молилась.
Он всю службу мне снится в глазах отстающих борзых.
И мне верится меньше в Него, чем в Его Справедливость.
Как часто бывает в случае с циклами, их составляющие неровны по исполнению и качеству. Если первая часть сводится в основном к описанию угнетённого состояния лирической героини (что не отменяет силы строк о лисьей шапке и лисьих страхах), нет выхода за его границы, то вторая – удачнейший верлибр, где как раз совершается работа поэзии, а не описание минорных эмоций. В случае со строкой «били били били» (отметим здесь, что графически это записано маяковской лесенкой; подчёркивается отдельность этих глаголов, их последовательность) возникает исконное, работающее на смысл стихотворения противоречие поэтического и житейского. Здесь уже не пережёвывание собственной депрессии, а подлинно поэтический импульс. По-человечески героиню жаль, никому не пожелаешь подобных снов – но строки пронзают и запоминаются. Тройственность удара колокола, становящаяся ударом по человеку, встраивается в сюжет стихотворения с его «борзыми», травлей, ощущением загнанности, но передаёт это в уколах точных ассоциаций. Мне видятся здесь, как говорится, «две большие разницы» по сравнению с первой частью цикла.
Третью часть, увы, хочется охарактеризовать формулой, обратной пушкинской, – «хорошая вера, но, увы, не очень смелая поэзия». Неудачной выглядит и рифма «причастия / свеча стоит» – вычурная, требующая слияния двух слов во втором созвучии. Это типичный «косяк» составной рифмы – функциональной, служащей как самоцель, как искусственное украшение. В который раз вспоминаются слова критика Евгения Абдуллаева о необходимости дефункционализации рифмы, то есть снятия с неё функции ёлочного украшения.
Четвёртая часть интересна, как вообще верлибры в этом цикле, которые явно получаются у автора более удачно: не возникает соблазна пережёвывания личных эмоций, состояние замыкается в ёмкие, по-хорошему хладнокровные – но внутренне трепещущие – образы. Полное соответствие словам Заболоцкого о том, что лицо стихотворения должно быть спокойно, несмотря на любые внутренние бури. Разумеется, эта формула не безусловна, как любое однострочное утверждение, но в таких случаях вспоминаешь именно её.
Пятая часть хороша, она отчасти опровергает мои слова о преимуществе свободного стиха в этом цикле. Верю, что передо мной поэзия, а не только вера (тавтология в этой фразе пусть останется намеренной). Обращаешь внимание и на мастерство длинной строки: здесь всё чётко, искусно, но не искусственно; нет лишних слов-затычек, как это часто случается с, например, пятистопным анапестом. «Он всю службу мне снится в глазах отстающих борзых. / И мне верится меньше в Него, чем в Его Справедливость» – это сильно, здесь совершенно очевидно поэтическое переживание религии, а не слепая покорность ей. То же самое и со строкой «То ли душу украла у Бога, и вспыхнула шапка»: и смирение на уровне интонации, и – на уровне стилистики – тонкая работа с фразеологизмом. Достоинства этой пятой части можно перечислять долго, но, пожалуй, остановлюсь.
Предложил бы автору оставить вторую, четвёртую и пятую часть.
Не могу не отметить и своеобразный момент, связанный одновременно и с псевдонимом автора, и с эпиграфом. Елена Лапшина, чьи строки вынесены в эпиграф, – замечательный поэт; думаю, её влияние плодотворно. Любопытно, что преемственность возникает и на уровне псевдонима («Лисица Кицунэ» – уже бывший, кажется, но всё же никнейм Лапшиной в соцсети). Речь, таким образом, идёт о влиянии на разных уровнях – возможно, не только творческом, а ещё и человеческом. К сожалению, я не могу сейчас полноценно сравнить, насколько здесь имеет место преемственность интонации. Думаю, что определённые ходы Лапшиной, её интонации здесь встречаются – и главным образом в силлабо-тонике; о приращении смысла нужно говорить отдельно. Есть, конечно, и маленькое подозрение, что сама Елена отправила тексты на конкурс под псевдонимом, поставив – для неузнанности – эпиграф из себя самой. В таком случае я окажусь в глупом положении со всеми предыдущими словами о «преемственности» и «приращении смысла», но здесь можно только гадать. Тут мог бы возникнуть любопытный эффект «двойничества», с одной стороны, а с другой – распознавания нами автора, как это было в случае с вышедшей в 2016-м антологией анонимной поэзии, где подборки были опубликованы без имён авторов, и это дало огромный простор для суждений об анонимности, об узнавании и неузнавании давно знакомых поэтов. Впрочем, всё это, конечно же, совершенно неважно в данном случае: значим только текст без всяких дополнительных привнесённых факторов.
Сибелиус
Карыч
Мир её чист и наполнен прекрасным неведеньем мира, распятого рунами, сурами, ведами…
Она могла обойтись без всего. Ей хватало себя и леса.
Наденет наушники, включит Сибелиуса,
юркая, чернобурая, вот такая себе лиса –
и катит на велике, наматывая на колёса
глину дней, песок времени, солнца косы,
что ласково падают в ноги, тонут в росах.
Всё её. Всё в копилку её, в багажник –
будь то листик сухой и почти бумажный,
или дуб, основательно и винтажно
простирающий важность свою дебелую
на четыре стороны света белого,
оттеняемого птицами да омелами…
Он смотрел на неё – иногда вскользь, но чаще всего внимательно,
находя что-то важное в этом простом занятии.
Подойдёт, бывало, глубокой саамской ночью к её кровати,
постоит тихо, поправит прядку сбежавшую…
Откроет окно, почистит луну от ржавчины,
налегая на совесть, мол, хватит уже, не жадничай,
у тебя этих снов котомка полная:
– Ну, давай-ка, – развяжет привычно, найдёт искомое,
отогреет попутно кого-нибудь босикомого,
что-то вспомнит, улыбнётся в усы густые,
позвонит Сибелиусу, спросит:
– Ты ли?
Начнут на финском, попрощаются на латыни…
Марья-Лии́са – юная, чернобурая –
спит легко, по-лисьи свернувшись в клубок.
Сон её тих и пока что не тронут бурями.
Девушке снится музыка, лес и Бог.
Как и в случае со стихотворением Кати Су, также присутствующем в этой десятке, представляется, что стихотворение могло бы стать частью цикла, где его оттеняли бы более сильные вещи. Это всё же фрагмент в разговоре, реплика, история, которой не хватило большего метафизического подъёма. Как выйти на что-то более важное – я не могу подсказать, это может решить только сам автор, но думаю, внутри цикла текст вполне смотрелся бы самодостаточным.
Несмотря на очевидный талант автора, стихотворение крайне неровное: очень хорошие строки («Девушке снится музыка, лес и Бог») сочетаются с пустой риторикой. Если в этой строке – сопряжение далековатых понятий, которое, как известно, Тынянов считал первейшим признаком поэзии, то фраза «находя что-то важное в этом простом занятии» – как раз пример риторики, и не более того. Хватает и штампов вроде «глины дней», «песка времени»; если усы, то непременно «густые»; лиса – конечно же, юркая и чернобурая (кстати, ассоциации с лисой возникли, возможно, из следования по пути наименьшего сопротивления – имени Марьи-Лиисы?). Есть всё же ощущение заштампованности поэтического мышления, которое автор – к счастью – пытается преодолевать: прекрасной финальной строкой, или образом луны, освобождаемой от ржавчины, или неологизмом «босикомый». Такие моменты и позволяют надеяться на интересную поэтическую работу в будущем. Но хотелось бы всё же, чтобы эти несколько искусственные попытки создать вычурный образ сменились развитием поэтического мышления; тогда стихотворение выиграет не за счёт неологизмов, а за счёт чего-то более ненавязчивого. «Босикомый» – кстати, неудачный неологизм; тут говорится об отогревании, слово «босиком» тут уместно, но насекомое вовсе ни при чём; получается, что отогревать нужно насекомое.
«Сибелиуса / себе лиса» – так не нужно, ради бога; эта маяковская составная рифма никогда ни к чему не приводила, кроме побрякушечного украшения и, как следствие, ухода от смысла. Слово «себе» тут абсолютно лишнее, и понятно, как и для чего оно появилось. Вместо эффекта, производимого на читателя, возникает предсказуемость.
на болотной пустоши, или не-сон лягуша
Folin D
лягушонок сидит на болоте.
опять не спит...
солнце раньше сегодня ушло –
объявило "короткий день",
что понятно, ведь если ты 24
всегда /7,
то однажды придёт выгорание и тоска.
впрочем, это так просто некрепкой душой устать...
лягушонок неспешно сомкнул-разомкнул глаза –
с расстановкой и чувством [не просто "хлоп-хлоп"] моргнул.
его "ква", обернувшись слепой антилопой гну,
ускакало куда-то невысказанным "аууу".
а ещё от взорвавшихся звёзд рыжевит вода.
и невнятное белое где-то на небесах
отдаляет его от его же "иже еси" –
то ли пеной морскою [солёною] моросит...
то ли пряжей запуталось хлопково в голове,
то ли сном лягушачьим – на аистовом крыле.
лягушонок моргает опять.
и не спит. не спит.
умирают большие миры в пустоте орбит.
но до аиста так и не сделан последний "хлоп".
лягушонок, зевая, кривит некрасиво рот.
светлячок выползает внезапно из-под коры,
зажигает бунтарно себя и горит, горит,
желтопузо светясь и дробясь в полутьме воды...
[жизнь простая порою. и мы в ней, увы, просты...]
лягушонок съедает лампастого –
гасит свет...
...и для мира ни пустоши, ни лягушонка нет.
Представляется, что главный проблемный момент для этого стихотворения – ремарки в скобках. Они производят не очень хорошее впечатление – думаю, что вообще объяснять, «мыслить» в стихах мало у кого получается, здесь один шаг до разжёвывания и скучной дидактики. Не стоит недооценивать роль подтекста и недоговорённости (которая не равна темноте и намеренному зашифровыванию, но искусство стихотворения – это искусство в том числе передать какие-то вещи экономно: ассоциацией, промельком). Кроме того, подобные ремарки лишают стихотворение энергии саморазвития, которая для него специфична; как бы отвлекают на «сторонние» размышления, следом заставляют возвращаться к главному. Кажется, что автор не сделал выбор между желанием «излагать» (возможно, даже воспитывать) – и гораздо более сложными задачами поэзии.
Тем не менее, нельзя не отметить удачи на уровне метафор: «от взорвавшихся звёзд рыжевит вода»; слово «бунтарно», которое словно из нездешнего словаря. Вообще, вся эта часть, где «светлячок», «желтопузо светясь и дробясь», лучшая. Здесь стихотворение достигает своего энергетического подъёма – но затем, увы, вновь сваливается в объяснение очевидного: «жизнь простая порою. и мы в ней, увы, просты…».
Очень хорошие строки: «и невнятное белое где-то на небесах / отдаляет его от его же "иже еси"».
Неясно, зачем нужно уточнение «солёною» в квадратных скобках: в таких случаях видится, что автор не уверен в варианте замены или в том, чтобы остановиться на единственном варианте.
И ещё – чувствую потенциал в сторону детской литературы. Возможно, как раз из-за «воспитующего» элемента. Подумал бы на месте автора в эту сторону. Впрочем, и тут стоит не переборщить с дидактикой.
Голубка
Таина Ким
У нас пьёт осень позднюю жару
из пепельных небес. Но очень скоро
прилипнет к стёклам иней поутру
мохнатый, словно свитер из ангоры.
Повеет влагой, холодом, тоской.
В тревожных сутках свету станет тесно.
И лета неуёмный бабий вой
в сирене растворится и исчезнет.
Ну, а пока, грозясь прикончить зной,
дожди плетут на севере интриги,
за городской несломленной спиной
горят поля дремучей повилики,
и дроны перелётные летят.
Но, несмотря на клёкот похоронный,
голубка кормит бойких голубят
в развалинах соседского балкона.
Здесь, думается, ещё предстоит движение к индивидуальному голосу. Хотелось бы «выныривания» из ровного течения пятистопного ямба – довольно коварного размера в русской поэзии, усредняющего: вспоминается фраза Максима Амелина, сказанная им семинаристке, о том, что «когда вы пишете пятистопным ямбом, ваши стихи становятся похожи на все русские стихи сразу». Думаю, способов преодоления этой инерции может быть немало – от вариативности в рамках отдельного размера (сокращённая строка, энергия строки, основанная на повторах, и т. д.) до вариативности размеров в целом. Усиленное чтение современников – и литературы о поэзии – здесь явно необходимо.
Возможно, тогда получится избавиться от штампов вроде «пепельные небеса» или сверхсхемных ударений («у нас пьёт осень» – двойной ударный слог, спондей, которого здесь не должно быть, это мешает благозвучию). И выстраивать стихотворение всё же исходя из предпосылки целостности, но не отдельности метафор, которые стремятся чем-то удивить. Всё же в поэзии, по Мандельштаму, «дышит таинственность брака в простом сочетании слов».
Эскапистская нота в финале стихотворения неубедительна. Конечно, хорошо, что какая-то жизнь происходит на фоне смерти, но всё же «несмотря» как будто неточное слово: «клёкот похоронный» – довольно сильная и жёсткая метафора, и этот образ голубки, пусть наполненный самой деятельной материнской силой, его не перевешивает. Не очень понятен и образ «перелётных дронов» – наполненное песнями сознание сразу же восстанавливает прецедентный текст «Летят перелётные птицы»; как-то образ дронов не сочетается с гораздо более безмятежной пейзажной картиной, вообще с птичьим полётом. Тавтология («летят перелётные»), которая есть в исходном тексте, выглядит довольно неуклюже и здесь. Думаю, к таким нюансам стоит быть внимательнее.
После «поутру» поставил бы ударение для выразительности.
мальчик А
Дмитрий Близнюк
небо - сырое филе окуня
завернутое в марлю
солнце уронило золотое кольцо
в стакан с пеплом
в рассветной тишине слышно как падают листья
сталкиваются лицами
звук точно кто-то ищет
бумажные деньги в карманах куртки
женщина-переселенка спит
а ее полоумный мальчик
с наискось срезанными передними зубами
смотрит в окно разинув рот
на дребезжащий как сервант трамвай
никто и не заметил мир
только он один в целой вселенной
держал на руках
этот огарок гравий детские рисунки
на смех курам ИИ
жирную землю в саду
кошку в ногах
желтую ручку с изгвазданным синим колпачком
---
петрушка под первым снегом - зеленые птенцы
микроцератопса
в мраморном пуху
птенцы пережили зиму
а они пережили еще одну зиму войны
хочется мне написать
хочется мне написать
Тексты Дмитрия Близнюка, представленные на конкурс, – удачные верлибры, в поэтичности которых не приходится сомневаться. С помощью живых говорящих деталей, которые только на внешнем уровне выглядят «перебиранием», создаётся точная картина целого – здесь есть и «куры ИИ» (точная трансформация фразеологизма), и социальные реалии («женщина-переселенка» и её «полоумный мальчик»). Но в основе всего – биение жизни, противопоставленной разрухе и хаосу.
В файле, присланном мне, стихотворение «петрушка под первым снегом…» отделено пунктирной линией. Не вполне понятно, это часть цикла или совершенно отдельный текст? Если отдельный, то стоило бы обозначить звёздочками для ясности; если составляющая цикла, то римскими цифрами. В любом случае, структурно это совершенно отдельное стихотворение, ёмкое и лаконичное. Повторение в финале – работающее: это «хочется мне написать» выдаёт неуверенность, иллюзорность, проистекающие от хрупкости существования. Действительно пережили или нет? Всё это сделано и узнаваемо, и точно, и ненавязчиво.
Если что-то рекомендовать, то хотелось бы, чтобы автор избегал таких сравнений, как «небо – сырое филе окуня». Слишком уж броско, да и было уже у Вознесенского «чайка – это плавки Бога», а у Парщикова «море – это свалка велосипедных рулей». Не высший уровень работы с языком, прямо скажем.
«Звук точно что-то ищет» – здесь двусмысленность прочтения: не уверен, что она входила в задачи автора. Звук, точно что-то ищет в карманах куртки – одно прочтение, тут подразумевается ищущий субъект, который пропущен, выражен в виде эллипсиса. Звук точно что-то ищет (звук, абсолютно точно ищущий что-то) – другой смысл. Для стихотворения важна семантическая многоплановость, но в данном случае она не задана исходными координатами. Впрочем, тут автору, конечно, виднее.
Прекрасные стихи!
Җаным
Елена Наильевна
Когда застревала нога в борозде,
"моя Амина" я талдычил везде,
как будто заела пластинка.
Планета держалась на ржавом гвозде,
еда подгорала на сковороде,
дрожала в углу паутинка.
Я бился в падучей, горячку порол,
и мышцу опять настигал кеторол
в удушливом сплине палаты,
но всюду шептал я: "Моя Амина",
и нежной тоской уносило меня,
как будто бы рядом спала ты.
В той съёмной квартире, где фикус растёт,
я знаю, там не было краше растрёп,
в движении - рыжий костёр ты!
Пришли по позёмке, а утром - снега
по пояс, машины не едут, пурга,
и мы на полу распростёрты.
И сколько признаний ни брошу в камин,
и сколько ни глажу кудрявых Амин -
где в них твоя грация лисья? -
всё плавится, шкуркой искрится в костре,
как сумерки, тает на белом бедре, -
не в радость подделки, вернись, а?
Вернись по позёмке, по пуху зимы,
по хрупкому "снова", по злому "немы",
пройди эту пропасть по краю.
В вино я ныряю до самого дна,
"моя АминаАминаАмина,
минем матурым", - повторяю.
А ты отвечаешь: "Җаным, посмотри -
фламинго,
дрозды,
какаду,
снегири
пестрят за окном, как цыгане!"
Копну выпуская, струится платок,
и зарева всходит несмелый росток
над миром, укрытым снегами.
И структура этого текста с его штампами, и поверхностность – истинно песенные, что само по себе, конечно, ни хорошо ни плохо. Но, возможно, стоит подумать в эту сторону с этим и другими текстами. В целом, если бы не этническая составляющая, можно было бы вспомнить Новеллу Матвееву; вообще через текст просвечивает традиция бардовской песни. Совершенно песенные строки – «и нежной тоской уносило меня» (тут и штамп из символизма – «нежная тоска» – который может ныне оживать только в массовой культуре, и отсылка к тексту песни: «и уносит меня, и уносит меня…»).
Из удач – сопоставление бытовой и надмирной сторон существования («Планета держалась на ржавом гвозде, / еда подгорала на сковороде»). Возможно, лучшие строки в стихотворении. Если автор всё же не выберет окончательно путь песни, то акмеистическое соположение вещного и «планетарного» стоит развивать, учась у лучших классиков и современников (от Ахматовой и Рейна до Капович и Дозморова).
«Как сумерки, тают на белом бедре» – блестяще.
«В той съёмной квартире, где фикус растёт, / я знаю, там не было краше растрёп» – прекрасно, но лишнее «там», за такими словами-затычками стоит следить. А дальше снова песенный штамп – «рыжий костёр»… Неплох и оборот «по злому немы» (игра на двойном значении омонима – «не мы»: тут и расставание, и немота, – правда, «рабы не мы, мы не рабы» уже было), но продолжается песенной «пропастью». Клише на всём протяжении текста соседствуют с поэтическими образами, вступают с ними в противоборство, обозначая действующий конфликт, где стоило бы сделать выбор.
«Заела пластинку» – правильно «заело пластинку»? Здесь, как говорится, не поручусь, но не проверял (нет, в Гугле не забанен).
И, конечно, осторожнее с составными рифмами. «Костёр ты» – неестественно ни в живой речи, ни в поэтической, так просто не говорят. Понятно, что нужно для рифмы к «распростёрты», но ощущение ведомости автора за руку рифмой – одно из самых малоприятных для читателя. Точно так же «спала ты» – фонетически неуклюже: рифма к тому же не эффектна, вопреки авторским ожиданиям, а, напротив, предсказуема, ясно, что рядом появятся «палаты». Не стоит здесь овчинка выделки. Помнится, на литинститутском семинаре, где приветствовались составные рифмы, меня как-то на втором курсе похвалили за рифму «ветрено / Ай-Петри, но…». Сейчас не знаю, что ужаснее, – та рифма («айпетрино» к тому же звучит как название деревни) или тот отзыв рецензента.
Приморское
Iaugh
Небо
Немота молний обманчива — гром подтвердит
это словообразованием из пробирок:
в них рождаются звёзды, среда их — графит,
связанный верой в искусственные сапфиры
в мочках эхолокаторов. Не слышишь — смотри:
мысли небес — облака, их можно потрогать
взглядом и крыльями, но оказавшись внутри,
понимаешь, что оказался в голове бога.
Время
Страшное страшно только тогда,
когда никогда наступает шагами сегодня;
ты просыпаешься по слогам
и оказываешься в преисподней
словозатворничества всех и вся:
в ответ на твоё «здравствуйте» консьержка хихикнет
и покажет на время — стрелки висят
во вчерашнее, но на самом деле — их нет.
Море
Утро. Туман оттирает волны от красной тины.
Стоят корабли величаво, даже картинно.
Скутеры, с рёвом волну рассекая,
проносятся на фиг. Фигуру леплю из песка я.
Получается — Навсикая.
В этих стихах чувствуется потенциал, многое откровенно понравилось, например: «и оказываешься в преисподней / словозатворничества всех и вся». Хорошо, что рядом появляется живая и узнаваемая смеющаяся консьержка – чувство меры и вкуса позволяет автору не утонуть в потоке возвышенных метафор, вовремя снизить пафос там, где это требуется. Или «просыпаешься по слогам».
Первое стихотворение, по-моему, чрезмерно придавлено Бродским. «Графит, / связанный верой в искусственные сапфиры / в мочках эхолокаторов» – и стилистически вычурно, и тяжеловесно (много существительных на коротком отрезке текста).
Слабее других, по-моему, «Море»: не удалось выйти из маринизма, пространства пейзажной зарисовки.
Вкусовой сбой – метафора «мысли небес – облака»: и вычурно, и кажется, что было миллион раз.
«Хихикнет / их нет» – не рифма, увы: «их нет» произносится с ударением на «нет» (иначе пришлось бы выговаривать как глагол «ихнет», что привносит комическую неуклюжесть).
Но в целом, думаю, ощущается поэтическое мышление, которое позволяет видеть мир в нетривиальном свете, остранять хорошо знакомые вещи. Автор обещает интересную работу.

Друг другу болючая память. Поэтическое обозрение с Борисом Кутенковым
06.12.2024
Друг другу болючая память. Поэтическое обозрение с Борисом Кутенковым
Поэтическая речь в этих трёх книгах утверждает себя в статусе невозможного — то невероятным сплавом взаимоотношений этики и эстетики, возможностью императивов и рецептов в стихах, абсолютно уже, кажется, утерянной (в случае Елизаветы Трофимовой); то художественным отстраиванием от линии минимализма, где (опять-таки, лишь кажется) уже не встретишь индивидуальность подобного свойства (в стихах Юлия Хоменко). То — особыми взаимоотношениями со смертью, ставшими сюжетом последней прижизненной — и первой посмертной — книги Алексея Кубрика…
В сегодняшнем обзоре — три сборника, вышедших в 2024-м. Книги представителей разных поколений (Юлий Хоменко родился в 1961-м, Елизавета Трофимова в 1998-м; Алексея Кубрика — р. 1959 — начиная с этого года нет с нами).
Книги совершенно полярных эстетик, объединённые только одним — подлинностью.
И, пожалуй, это более верный признак объединения, чем поколенческий.
О книгах Елизаветы Трофимовой, Юлия Хоменко и Алексея Кубрика

Всеочищающий праздник Елизавета Трофимова. Книжка. СПб, издательство «Нормальные стихи», 2024. Предисловие Льва Оборина.
На первый взгляд книга Елизаветы Трофимовой способна ошарашить собранием этических максим, императивов, своеобразных «рецептов существования»: «практикуй / радикальное / неосуждение / о террорист / жизни лучшей / далёкой», «всегда / на стороне слабого», «руину чти / люби утрату». Возникает замешательство: что это — формулы на лучшую жизнь или поэзия, исходно противостоящая ответам, заостряющая вопросы? А может быть, именно такое количество «рецептов» необходимо нам всем сейчас, в ситуации растерянности, и поэзия, вторгаясь в зону этического, только тем и оказывается сущностно необходимой? «Рецепты» порой простейшие — «навести меня в больнице / принеси мне апельсин». В «Книжке» Трофимовой (заглавие-отсутствие ускользает в непосредственность, отстраивается от пафоса, будучи одновременно и подчёркнуто самоумаляющим, и несуществующе-аскетичным) по-новому проблематизируются отношения этики и эстетики и разговор о коллективном. Нет того, чему невозможно было бы написать признание в любви; человек человеку друг вопреки разделяющему времени; слова о взаимопомощи — ворох простых неосуждений, утешений, принесённых апельсинов и вслух рассказов длинных.
каждый каждому друг — но — — друг другу болючая память славословить — не перестать — перестать — слово славить: только жизнь воспевать только воздуху кланяться тихо на огне не сжигать муравьев отпускать домой к муравьихам
Закончить стихотворение раем детства — вполне естественный жест при такой поэтике, и слегка трансформированный Мандельштам в финале просто-таки напрашивается. К «простейшему из завещаний» — «только детские книги читать» — присоединяется ещё более простое — до отсвета той банальности, которая, будучи столько раз отвергаема, уже успела стать неочевидностью.
как стыдно топиться в платье подруги нельзя резать вены в чужой квартире спаситель бросает волшебные кру`ги держись за них мудро посередине никто не умеет травиться достойно от вида покойника морщится зритель культура пыталась в подсветку грозой но брюзга аристотель предатель пракситель и мы собираясь на выход с вещами в подкорке запрячем цветущую фигу о это простейшее из завещаний любите друг друга и детские книги
Временами «Книжка» представляется написанной будто не в своём времени или в молчаливом сражении с его устойчиво-разъединяющими координатами: смертности, социальности. В предисловии Лев Оборин отмечает, что книга, посвящённая памяти Василия Бородина, несёт в себе и отсвет его доброты. Бородинские интонации иногда и правда вспоминаются — не отклик ли здесь (в приведённом ниже стихотворении) на его «я люблю тебя так что вода начинает сиять»? Здесь же и предсмертная записка (что в ней было? Фигурировала ли она в Сети или только среди близких поэта? Не вем). В любом случае, рядом оказываются и отклик на смерть поэта и близкого друга, и горестная связь с «мёртвым местом». Налицо трансформация фразеологизма — «мёртвое место» есть место смерти и падение из окна; отсутствие же его — собрание «мест живых», которые, видимо, и ассоциируются с поэтом. Возможно, здесь воспроизведена реальная записка — ещё больше вдаваться в эти вопросы было бы совсем излишним. Процитируем текст.
записка ВСЕМУ: «я люблю тебя очень — на мне не осталось мертвого места»
Книга Елизаветы Трофимовой и есть такая ненавязчивая «записка всему». Кажется, любовь в этой слегка учительной директиве миру есть главный рецепт, вырывающийся непроизвольно. Если Андрей Платонов писал про стихи как про реакцию потения, то в «Книжке» любовь — физиологический ответ на «болючее» существование. (Слово «болючее» автор этой книги вообще любит — в нём слышится снижение пафоса по отношению к боли). И это — при том, что несправедливость мира не отрицается:
двор-калека — а глянь тоже — всеочищающий праздник друг мой свет-хулиган свет-оборвыш свет непогрешимый выходишь на улицу будто тебе разрешили
В последних строках — и реакция на коронавирусные реалии, и горестная укоризна по отношению к близкому человеку (выходящему, скажем, на улицу в разгар пандемии или — когда бы то ни было — на митинг), и ненавязчиво-мудрое отсутствие права как-то вмешаться, противостоять этому неразрешённому выходу. Эта реакция застывания между осознаваемой несправедливостью — и «всеочищающим праздником», внерациональным праздником существования — часто возникает и в некоторых случаях создаёт особый художественный эффект. В лучших стихах этой книги — эффект превращения, приручения страшного добротой заклинания или простого слова:
дразнить: это тигр? о, тигр! ништяк с тобой целоваться а выходит — кошусь на тарелку и стол с неохотой великой, присущей живому, зову: солнцесветзанавескаокно и утро становится утром
Конфликт между намеренным беспамятством (как отсутствием памяти о зле) и памятью о каждом, между реальной земной «дырой» и раем, — в этих стихах ключевой, волнующий, вибрирующий:
говорит и корчит рожу не оглядывайся в смерть я виднеюсь из прихожей твоих птичек буду греть чистота лежит обмылком не нужна и не видна и белеет над затылком золотистая вина
Невозможно не поддаться обаянию книги и её своеобразному наплевательству на условно «очерченные» (кстати, кем и когда?) границы поэзии. Вырываясь же из этого круга в область критики — видишь, как слова порой вырываются из границ эстетики и оборачиваются лирической банальностью. (Круг замыкается тем, что вселенная Трофимовой вовсе не признаёт подобных констант, и в этом её парадоксальное обаяние; на колу мочало, начинай сначала).
оно потом преобразится оно иначе засверкает и я люблю тебя огромно как только хочется любить
В большинстве текстов у автора получается, впрочем, удерживаться на этой тонкой грани. Так, довольно-таки простой текст умело выводит нас из состояния инерции: сначала — тавтологической рифмой, затем — переходом на верлибрическую основу и в финале — ритмизованной, преломлённой системой отражений, которая отвечает семантике любовного признания. «Я люблю», оказывается, можно сказать по-новому — без интонационных кавычек Бахтина и Умберто Эко.
одним смотрю в бытие другим смотрю в небытие и сотней всех остальных смотрю на тебя отражаешься не нарадуюсь
Остаётся лишь один вопрос, трудный и заковыристый, снова выходящий в область этики, — о претворении в жизнь стольких заветов (рецептов, формул, императивов — как хотите). Геометрия, заданная в одном из начальных стихотворений этой книги, — «проглотила косточку тоски / значит будет дерево тоски», — наводит на вопрос о соотношении между косточкой и деревом, между сказанным и воплощённым. Поэзия — что-то глубоко вторичное по отношению к этому вопросу или тесно слепленное с ним? Здесь будем совсем кратки: те, кто знает в жизни Елизавету Трофимову, — верят в сбывающуюся силу этих слов.
При помощи сердца. Юлий Хоменко. Лётное поле / Сост. Д. Тонконогов. — М. : Пироскаф, 2024. — 80 с. — (Книжная серия журнала «Пироскаф», вып. 2)
Поэтика, в которой работает Юлий Хоменко, узнаваема: преимущественно минимализм, чаще — верлибр, реже — минималистическая силлабо-тоника (впрочем, на мой взгляд, не делающая погоды в этой книге). Кажется, здесь сразу же попадаешь в некую стилистическую клетку, в которой уже есть Иван Ахметьев, Александр Макаров-Кротков, Дмитрий Гвоздецкий, Николай Милешкин, Матвей Цапко и так далее; авторы с разными, узнаваемыми голосами, но так или иначе находящиеся в рамках общего универсума. Кажется, от этой стилистики уже невозможно отстроиться: она слегка подчиняет, замыкает в себе — то и дело приближая поэтический текст к запоминающимся формулам, афоризмам, цитируемости и, в общем, к довольно прикладным по отношению к поэзии штукам. Каждый из упомянутых авторов (а моё отношение к ним предельно различно) индивидуализирует высказывание, находясь внутри всё той же «клетки». Хоменко удаётся отстроиться и от лучших образцов в этом «условном» жанре, и от самой подчиняющей стилистики, — прежде всего с помощью парадоксального смещения времён, которое уже заставляет вспомнить не стилистических «отцов» и «собратьев», а, например, Арсения Тарковского.
в бессонницу при помощи сердца пробую перестукиваться с теми кто уже на свободе
Сон здесь превращается в свободу, состояние бодрствования — становится неким заключением (возможно, как раз-таки в клетке «всеобщего». Текст, будучи совсем не об этом, странным образом откликается на наши предыдущие размышления). В одной зарисовке соединяются и память, и мотивы физической свободы и заключения, но где-то ассоциативно просвечивает смерть: слова «те, кто уже на свободе» — ненавязчиво отсылают к свободе безусловной, дальше которой нет, к «нигде». Воспоминание, в котором причудливо остраняется время, — сюжет, варьируемый Хоменко вновь и вновь. Вот, например, в более длинном (и только условно «минималистическом») тексте:
с папой на троллейбусе по Кропоткинской в Кремль папа умер троллейбусы отменили Кропоткинскую переименовали как же я доберусь теперь до Кремля
«Папу» и «Кремль» (оставим возможные и, скорее всего, случайные политические допущения) здесь объединяет мотив защиты, возвышения; «добраться до Кремля» — по-детски привстать на цыпочки, оказаться ближе к надёжному авторитету. Но поэтический текст, конечно, — не система шифровок, а языковая структура, и в этом смысле можно сказать, что вещь сделана мастерски. Так или иначе в этом верлибре становится важным всё — от глаголов-эпифор во второй строфе до выдающей растерянность смысловой паузы в третьей. Пожалуй, именно иррациональный вопрос в конце, не поддающийся пересказу, расшифровке, делает текст по-настоящему интересным — и не в полной мере поддающимся интерпретациям. Эта неполнота интерпретации выводит лучшие вещи Хоменко на уровень поэзии. Так, смещение времён нетривиальным образом действует в (приведённом ниже) внутреннем монологе, в котором чувствуется тоска по России. Говорить напрямую о стихах в связи с биографическими мотивами было бы для критики моветоном, но и эмигрантский мотив не получается отбросить (Юлий Хоменко давно живёт в Вене — и наследование линии, условно, позднего Георгия Иванова напоминает о себе: то «австрийская осень», которая оказывается причудливыми параллелями связана с историей Пушкина и Пущина, то «австрийская берёза / прикидывается кумекающей по-русски»). Реалии прошлой, подзабытой жизни смешиваются в воспоминаниях; зима оказывается покрывающим их — единственным — единством (тавтология в этой фразе намеренна). Примерно как в анекдоте про старушку — «хреновое лето». Но и смысловая пауза вновь становится конструктивно значимой: в ней как будто монологизируется состояние лирического героя. Это жест, который не требует дополнительных обоснований; возможно, в нём «высказывание» обретает максимальное преодоление себя.
Измайловский бульвар на пересечении с Пятой Парковой заснежён не меньше Сиреневого на пересечении с Седьмой да и в целом в северном полушарии со всеми имеющимися пересечениями включая образуемые параллелями и меридианами зима
В озаглавившем книгу стихотворении каждое поле становится лётным «из-за над ним летающих / ветров / облаков / самолётов / ангелов / пчёл». Книга Юлия Хоменко в этом смысле дарит абсолютно непредсказуемую степень свободы — любое воспоминание способно стать поводом для художественной зарисовки; зарисовка, которая перерастает уровень самой себя и превращается в художественный жест. «Лётный», взмывающий; внимательный к миру и безразличный только к одному — к физической невозможности преодоления пространств. Да и правда, так ли оно важно, если прочитать «Лётное поле»?
Смерть, летящая домой. Алексей Кубрик. Вариант старого. — М. : Пироскаф, 2024. — 70 с. — (Книжная серия журнала «Пироскаф», вып. 1). Послесл. Леонида
Книга поэта и педагога Алексея Кубрика (1959 — 2024) была передана автором в издательство незадолго до ухода из жизни. Здесь в основном последние стихи, как минимум два текста встречались мне ранее, в его предыдущих сборниках (в том числе во «Внимательном лесе», 2015), — возможно, таких текстов и больше, здесь не претендую на полноту знания. Это сочетание не переводит книгу автоматически в статус избранного, но несколько по-иному располагает более ранние стихи в пространстве и времени, делает их частью целостного палимпсеста, где взаимоотношения со смертью — ключевой сюжет. «Палимпсест» по отношению к стихам ушедшего поэта — не моё слово, оно услышано мной от Евгения Абдуллаева, который как-то заметил, что после смерти в стихах начинают проступать эти нотные знаки. (Добавлю, тут есть немалый соблазн вчитывания, однако в случае с Алексеем Кубриком можно, кажется, говорить именно о сюжете — особых, близких, тесных до взаимности взаимоотношениях со смертью).
Смерть — это память без нас о ней и без неё о нас.
Или — появление её в образе истребителя, сверхзвукового самолёта, уже в соответствии с реалиями времени:
Облака рисует кто-то бледно-дымный и сквозной. Длинный след от самолёта. Смерть, летящая домой.
И:
в битве с миром с прекрасным миром полным птиц и бессонных звуков не похожих на рёв турбины истребителя сверхзвукового смерть несущего так изящно что котам и представить сложно
Здесь хочется вспомнить любимое Алексеем Кубриком слово «проборматывание», отметить тесную связь его вещей с внутренним монологом и образом подсознательного, такого утреннего полусонного мудрствования; представляется и его характерная усмешка — ирония в последнем примере смягчает высказывание, не позволяет ему стать апокалиптически горестным. «Прекрасный мир» же отсылает, помимо прочего, к словам Глеба Шульпякова, которыми он как-то обозначил формулу поэзии, — «мир прекрасен, а человек умирает». Возможно, именно это сочетание — преддверие неизбежного и наблюдение прекрасного мира, уверенность в его красоте (вопреки тому, что в нём летят беспилотники) — и позволяет этим стихам говорить с абсолютной чистотой звука. Узнаваемой правотой последних слов (не побоимся здесь пафоса). В контексте биографии поэта это определение — «последние слова» — звучит тавтологично и, возможно, отсылает всё к тому же невольному вчитыванию; но теперь знание судьбы и правоты стихов сопряжены и неразъёмны — не так просто вынуть одно из другого.
Человек говорит на родном языке и молчания ставит печать, чтоб услышать, как падает роща к реке, как за ней пробирается падь, как растерян дремлющий шелест листвы, как дорога холмистым хвостом собирает осколки дневной синевы и вставляет в брошенный дом. Человек-человечек желает уйти, — прикоснись ко мне хоть на миг! — кто сказал, что тебе может быть по пути не с героем прочитанных книг, а с заштатным городом или огнём, пожирающим мёрзлый снег… Человечку кажется: он вдвоём даже с городом — человек, но в его котомке чужая беда, а к своей он как-то привык. Не сроднился, нет. Видно, нет и да запропали из прожитых книг.
Столь же хороша в книге и любовная лирика — напоминающая о позднем Георгии Иванове; впрочем, само его упоминание возвращает нас к определению последних слов.
Решали, что хорошо, потом решили, что плохо, и человек перешёл в тепло своего вздоха. Ветреная весна. Стен тесные тени. В вазе стоит тишина двух разных растений. В вязком утреннем сне, в мельканье ветвей и окон свет живёт на стене. Мне без тебя одиноко. Я тебя не забыл. Я остался на грани ухоженных нами могил — покинутых нами свиданий. Это твоя тишина легче, необычайней. Это твоя весна не расстаётся с тайной.
В послесловии Леонида Костюкова намечены несколько контуров разговора об Алексее Кубрике — которые, надеюсь, будут развиваться в последующих статьях о нём. Один из таких контуров — его педагогическая деятельность: «Алексею Анатольевичу удалось то, что удаётся очень немногим, — действительно воспитать молодое поколение (разумеется, не всё, а в разумных масштабах). Литературно — но литературно всегда не только литературно. Это как кофе, раз за разом становящийся больше турки». Помню и своё посещение его семинаров: Кубрик умел говорить меткими формулами, не всегда очевидными сразу, прорастающими через время, — и думаю, таких формул его ученики смогут вспомнить множество. Мне же запомнилась одна — о необходимости эстетического риска в стихах. Думаю, в своих стихах автор воплотил этот завет. Мне жаль учеников, которые не столкнутся с его педагогическими монологами. Одна мысль об этом заставляет как-то чувствовать обеднёнными поколения, идущие вслед за нами. Остались стихи.

Борис Кутенков. Как стучат в нашу дверь
19.11.2024
Борис Кутенков. Как стучат в нашу дверь
Три поэтических сборника 2024 года
О книгах Майки Лунёвской, Дмитрия Смагина и Сергея Рыбкина
В предыдущем обзоре мы говорили о сборниках авторов условно «двадцатилетних» и тех, кто чуть старше. Вряд ли наших сегодняшних авторов можно отнести к одному поколению: самый старший, Дмитрий Смагин, 1974 года рождения, младший, Сергей Рыбкин, — 1995-го. Но всё-таки объединяет наших героев стремление остаться в границах чистой лирики: будь то актуальная и своевременная форма патриотизма, как в случае Майки Лунёвской, басенный способ разговора о социальном зле (Дмитрий Смагин) или чистота метафизических поисков (Сергей Рыбкин).
Итак…
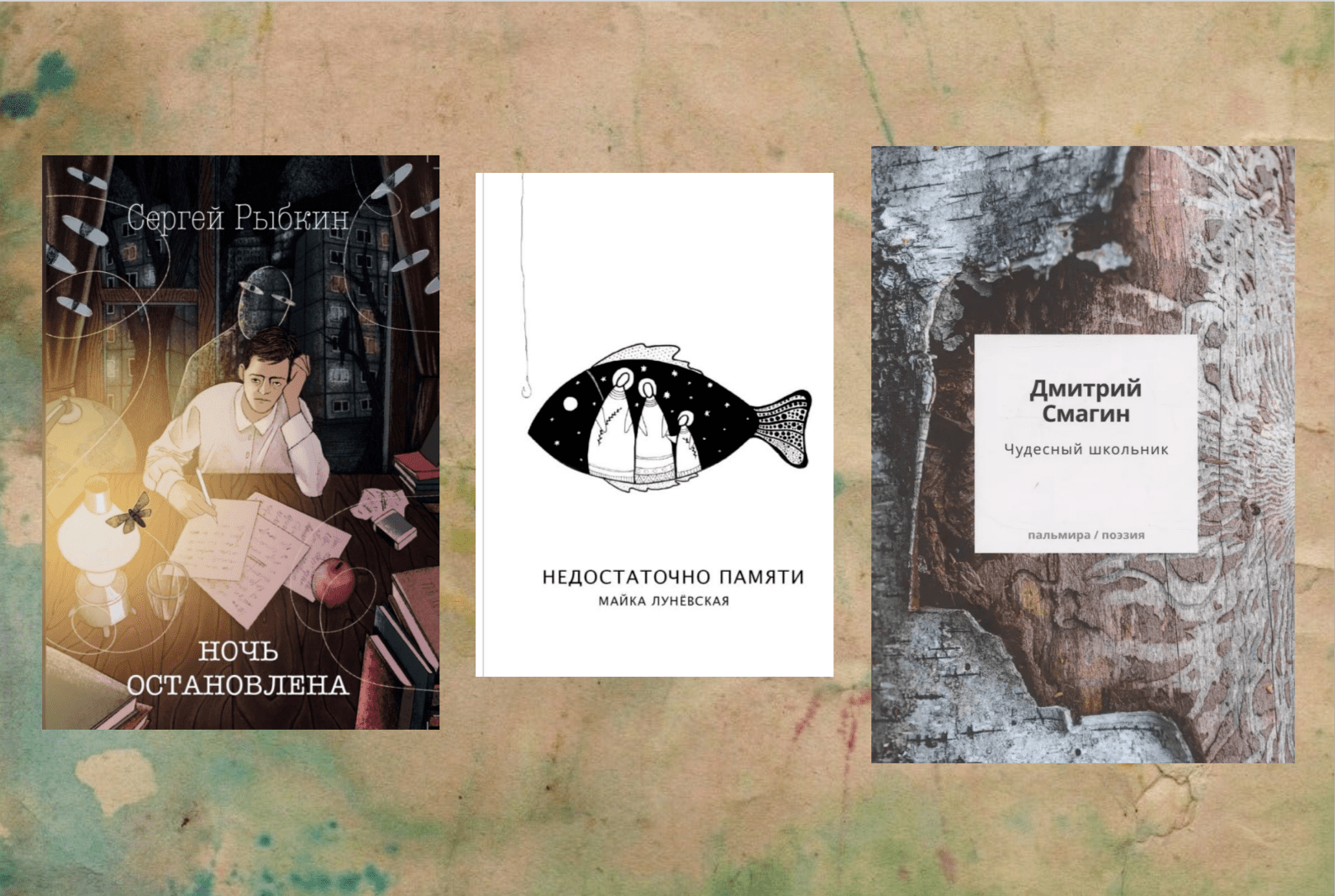
Память по земледелию
Майка Лунёвская. Недостаточно памяти. — М.: Издательство «Наш современник», 2024. — 62 с.
В каком-то смысле эта книга — расширенная аллюзия на знаменитую розановскую формулу («что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай»). Ясный взгляд в лицо смерти, которая между тем не отрицается; заговаривающая и даже декларативная нота спокойствия и эскапизма, которая не боится идти вопреки «всеобщему» неспокойствию; бесстрашное прозрение страшного в очевидном; тяга к корням, становящаяся спасением, — таковы стихи Майки Лунёвской. Памяти здесь достаточно и даже в меру, заглавие сборника врёт (смайлик).
Как ни расти, а стеблям лежать в зиме,
в коме, в комке из снега, лицом к семье,
в корни, а то и значит, держись корней,
помни свою печаль, говори о ней.
Но если копнуть поглубже, то это, на самом деле,
никакой не ужас, а память по земледелию.
Поэзия Лунёвской вписывается в стоическую традицию, индивидуализируя её, соединяя с наглядно «почвенным» содержанием. Точно так же индивидуализируется почвенное, идя рука об руку с интонацией грустноватого стоицизма, — но ни в одном моменте не становясь разрыванием рубахи на груди, не переходя в статус пустых слов. Вместо этого — отчётливая аллюзия на ахматовское «и если в дверь мою ты постучишь, / мне кажется, я даже не услышу», намеренное и демонстративное закрывание слуха от ненужного: «садовый труд как сумма груш и грыж / и труд бумажный / а то что ты со мной не говоришь / уже не важно». А вот — гораздо более беспощадное, с сарказмом, использование «бродского» интертекста — вкрапление цитаты о «длинной» жизни внутри натуралистической картины не то что снижает, а изгоняет всякий пафос. Читатель остаётся всё с тем же ненатужным стоицизмом длящейся жизни и ощущением закадровой смерти, а нарратор — с последним достоинством остановки у «корней»:
к вечеру поливали себя и корни
водопровода нет есть бочка и буровая
майонезным ведёрком (я же не посторонний)
нагую бабушку поливаю
в городе перед домом в кустах малины
вдруг кто увидит но бабушке наплевать
как говорится жизнь оказалась длинной
теперь-то чего скрывать
Эскапизм Лунёвской порой возмутителен, как вставшее в позу отсутствие страдания на похоронах близкого человека. «Да, растут и кладбища, и тюрьмы, / но и сад растёт» — да, это произносится сегодня. Мотивы «шеи», «головы», своеобразной подпорки связаны всё с тем же почвенничеством; всяческие «зато» вызывают замешательство на фоне времени, когда всё это пишется, но и позволяют наблюдать мудрость слов и позиции. Книга отчётливо поляризует аудиторию в этом смысле (как, впрочем, и по отношению к переосмысляемой здесь традиции). Можно мировоззренчески спорить с таким спокойствием, а можно видеть в нём едва ли не единственно правильный способ проживания «тёмного». Та же тема памяти, провозглашённая в названии книги, порой идёт рука об руку с жутковатым стиранием реальности — и это производит сильное впечатление:
Там лес сгорел и заново возник,
но больше он пожар не вспоминает.
В лучших вещах этой книги ощущение собственной малости и данности существования даёт нашему внутреннему человеку особую прививку смысла. Горестная обречённость на себя и философия всепроникающего знания о времени; всё та же контрастирующая с ужасом ровность и сдержанность интонации, — в этом смысле стихи Лунёвской занимают особую нишу в пространстве хорошего и прекрасного, что пишется сегодня на русском языке. Пространство этического в них становится продолжением читательского дыхания, отстраняя разговор о приёмах, об иерархии, традиции. Делая вещи этой книги незаменимыми.
что всё кончается быстрей чем можно уловить
лежи спокойно под землёй плыви во сне рыбак
что я никто никто никто три раза повторить
и больше вслух не говорить но знать что это так
Прислушиваться к звуку бензопилы
Дмитрий Смагин. Чудесный школьник / М. ; СПб : «Т8 Издательские Технологии» / Пальмира, 2023. — 68 с. — Серия «Пальм
Название «Чудесный школьник» в контексте сюжета сборника видится многозначным — это и потерянный рай детства, и утраченная вслед за ним человечность. Школьник чудесен априори, просто потому что «будьте как дети», но это ненадолго. Другое, менее очевидное значение — с усиленным акцентом на слове «школьник»: некая школа жизни, которую обретает лирический герой, проходя через сказочный лес превращений и загадок. Ребёнок, мечтающий построить школу для зверей, пишущий о «льве — чудесном школьнике», — таков персонаж заглавного стихотворения, открывающего сборник. Но странно было бы воспринимать книгу Смагина как собрание безмятежных загадок и потешек, милых мелочей жизни, — что бы там ни гласила аннотация о «маленьких, кажущихся незначительными событиях», из которых «складывается наша жизнь». События-то маленькие, но значение происшествий — большое. Звери, не находящие себе места; персонифицированное в каждом из них одиночество и прозреваемая всюду иная сущность — об этом «Чудесный школьник». Книга страшных сюжетов, порой осознанно стилизуемых под зарисовки увиденного и дофантазированного. Внезапное порой приоткрывается внутри самого сюжета, преодолевая его, ошеломляя нас, — как в финале этого стихотворения:
Худая, взъерошенная,
бешеная лиса
шла по обочине
в сторону посёлка.
Мимо, сигналя,
проезжали машины,
она же ничего не замечала,
так была напугана изнутри.
Когда мы остановились
из любопытства,
не стала кусать колесо,
а спросила глазами:
— Нет ли среди вас
человека с ружьём,
чтобы помог мне
начать с чистого листа?
Тексты Дмитрия Смагина предстают перед нами как десубъектные нарративы, где осознанное устранение авторской оценки работает на производимый эффект. Скажем, процитированное выше стихотворение многое бы потеряло, если бы сюжет не был изложен столь протокольно: рассказ нарратора (похожий на правду), финальный монолог лисы (существующий уже внутри лирического героя, ненавязчиво преподносящий чудо). Но в этом определённая сложность восприятия вещей басенного жанра, в которых намеренно отрезана мораль; о чём нам говорят эти сюжеты? В отзыве на обложке — слова Евгении Ульянкиной: «Смагин говорит: смотрите, вот из этого и состоит жизнь. [Из «маленьких и по умолчанию как бы незначительных деталей», как пишет Евгения. — Б. К.]. По-моему, очень важное напоминание в дни и месяцы, которые мы проживаем внутри большой истории, уже не зная, куда от неё деться». С этим хочется чуть поспорить — перед нами не просто способ эскапизма внутри большой истории, а басенно-неочевидный способ разговора о ней. О социальном зле. И, наконец, о звероподобной сущности человека. Вот травестированный сюжет о явлении тоталитаризма — напоминающий знаменитую сцену из «Зеркала» Тарковского, но, опять же, как бы намеренно десубъектный и потому лишённый малейшей дидактики, декларативности:
Во сне я стоял
на коленях
на краю ямы,
потому что
в зале кто-то
чихнул,
когда товарищ
Сталин
делал доклад.
А вот — волки, шагающие «в круглосуточный магазин» и подходящие к «одинокому ночному продавцу» (намёк на ограбление? На ад потребительства? Отсылка к «голове собачьей», впрочем, намекает и на Голгофу, и на голову Емельяна Пугачёва, которая, по легенде, улыбнулась, будучи отрубленной. Простор интерпретаций делает стихи Смагина по-настоящему живыми). Я бы отметил в этом тексте и преодоление сюжета новогодней зарисовки, максимально непривычное; и полное отсутствие иллюзий о человеке (звери в авторском универсуме явно ценнее и добрее). Впрочем, это отсутствие, наверное, и вообще привносит в стихи особую горькую подлинность. Не только в смагинские.
На опушке скучают ёлки.
Снежный падает серпантин.
Мимо них прошагали волки
в круглосуточный магазин.
Там за дверью не ждут с дарами,
не ведут дрожащих овец,
вместо жертвенных дев с губами —
одинокий ночной продавец.
Что прикажете делать с изгоем?
Галогенные лампы дрожат.
На икру с дорогим алкоголем
левой лапой укажет вожак.
— Просыпайся, оранжевый Маугли,
и момент зацени.
Оставь себе мелочь на сдачу,
голову собачью на обрывке цепи.
Немалое достоинство стихов Дмитрия Смагина — их способность не отрываться от узнаваемых житейских зарисовок (при очевидном преодолении этой «зарисовочности» на уровне языка, стиля, поворотов сюжета). В одном коротком стихотворении — ирония над знакомой социальной реальностью, где «успех волшебной палочки», несомой собакой, противопоставлен отсутствию этой магии у человека; сама социальная реальность как зомбирующий сон. Есть и что-то ещё — необъяснимое и грустное и, наверное, называемое авторским всеведением.
Собака к берегу плывёт
с волшебной палочкой в зубах.
Она счастливая плывёт
под птичий всплеск, под рыбий взмах.
Она живёт как смотрит сон.
Счастливей в мире не найти.
Хозяин снял на телефон
и ролик выложил в сети.
Его увидели друзья,
друзья друзей и ты, и я.
Показывают палец вверх,
пророчат палочке успех.
(Мне кажется, в этом желчном отстранении, в абсолютном отсутствии иллюзий можно расслышать интонацию Ходасевича; влияние последнего вообще заметно в сборнике — от эксплицитного переосмысления строки «мир для него хоть на миг, да иной» до переосмысленного «неужели вон тот — это я?», которое превращается в шаржированный автопортрет стоящего «в трико и бушлате, / с полной корзиной / утративших надежду / боровиков». В последнем примере, конечно же, чувствуется линия «Ходасевич / Гандлевский», но оборот «утративших надежду» — типично смагинский: эдакий нефорсированный жест предельного отсутствия веры, но связанный не с самим собой, а с вещами мира, в то же время повествующий о герое, но как бы на отстранении.)
Если же говорить о форме, то в равной мере интересны здесь и силлабо-тоника, и верлибры, но всё-таки делают погоду в сборнике именно последние. Они создают ощущение определённой ритмической раскованности, в них есть так нужное свободному стиху соотношение между нарративным и лирическим началом. Впрочем, конечно же, налицо и проблемы, связанные с верлибром: порой стирается граница между высказыванием в стихах — и собственно поэзией. Так, в замечательном (по содержанию) «Кто-то настойчиво…», где автор этого обзора готов подписаться под каждым словом, всё-таки не столь обязательна расстановка стиховых пауз; кажется, это именно та проза, которую можно было бы записать в строчку.
Кто-то
настойчиво
стучит
в дверь
и дёргает
за ручку,
а мы
мужественно
притворяемся,
что здесь
не живём,
а живём
в каком-то
другом
далёком
от этого
месте,
где не
слышно,
как стучат
в нашу
дверь.
Действительно, как будто «не слышно»… Дмитрий Смагин написал в автографе на присланном мне экземпляре книги: «Лес прислушивается к себе, чтобы понять, откуда исходит звук бензопилы». Такое чуткое и тихое прислушивание к собственным внутренним истокам (но и к соседним деревьям) сегодня особенно важно. От опасности оно, возможно, не убережёт, но поможет понять истоки происходящего с нами. И донести их до соседей по лесу.
Сергей Рыбкин. Ночь остановлена. — М.: ЛитГОСТ, 2024. — 96 с.
Вторая книга стихотворений Сергея Рыбкина тяготеет к гибридному жанру, в большинстве текстов устраняя границу между коротким дневниковым фрагментом и стиховым высказыванием. Кажется, в такой эволюции (заметной на фоне дебютной книги Рыбкина «Вдали от людей», 2020) — борьба с самим голосом «поэзии», понимаемой как туман суггестивности и соблазн многословия; выяснение самых главных слов. Сборник при этом в лучших вещах остаётся вполне лиричным; в нём есть розановский гибрид дневникового прямоговорения — и образного мышления. Стихи изобилуют меткими и точными формулами, данными автогероем себе, бытию и внутреннему состоянию: «одиночество — это состояние / когда даже Бог отвлекается от тебя». Неудивительно, что верлибр наиболее подходит для выражения этих внутренних интенций — точность слова и его некоторая семантическая ограниченность словно внутренне противостоят «далеко заводящей» образной метаморфозе.
Так, лаконичное стихотворение, следующее за моностихом «Любовь — это», как будто бы даёт определение любви. Здесь минимализм взыскует самых точных слов и акцентировки смысловых пауз на том, что в более суггестивных, затягивающих текстах Рыбкина оказалось бы утянутым в водоворот речи:
левый внутренний карман
в котором лежит телефон
с долгожданным
непрочитанным
сообщением
С одной стороны, важна «непрочитанность», которая словно концентрирует в себе различные смыслы. С другой стороны, определение «долгожданное непрочитанное» оксюморонно: ведь пока телефон лежит в кармане, нет уверенности в непрочитанности сообщения и даже в том, что оно пришло (а вдруг прозвеневшее — другое, не долгожданное?). Ну, если только специально не читаешь его, оттягивая момент страшного. При этом становятся значимыми и все остальные слова: «левый» (намёк на сердце, а значит, на интимность сообщения, на то, что подразумевается всё-таки любовное письмо), «внутренний» (то же продолжение линии интимности). Вроде бы ясно, что речь идёт о сладкой длительности ожидания. И всё же остаётся вопрос: что за пределами этой речи, этой внятности? Стоят ли смысловая точность и читательский отклик невольного ограничения возможностей слова? Ясно, что на эти вопросы возможны разные — и даже полярные — ответы.
Кажется, борьба поэзии с записной книжкой, а рассудка — с инерцией «внесмыслового» начала становится внутренним сюжетом сборника: «вот уже несколько дней ничего кроме мысли не случается». Озарение аналитического свойства отстраивается от принципиально иного состояния: «кто-то за руку снова выводит меня / в эту тьму языковую», «как же хочется лета / воды дождевой / сладкой муки / творящей поэзию мной». «Мука» творит поэзию автогероем, ведёт, по слову Рыбкина, «за любые границы системы»; формула, то бишь фиксация любого, даже самого поэтического состояния, на это принципиально не способна, ибо замкнута в собственных границах, и если преодолевает замысел — то на несколько метров от решётки. Порой — словно бы для преодоления инерции стиля — появляется сильный полифонический эффект: голос констатирует, в финале же заметен характерный аналитизм, как бы противостоящий поэтическому, охлаждающий его «другим» голосом разума:
Смерть ведёт за собой
и ступени растут и растут
успокой
опровергни всё это
«Ночь остановлена» при этом — разнообразный сборник, в котором стилевые возможности совсем не остановлены верлибром. Есть лаконичные, при этом требующие регулярного стиха мгновения фиксируемого любовного рая; упоминаются набоковские бабочки, но сам текст абсолютно в духе Леонида Аронзона:
встреча наших сознаний всегда долговечнее тел
я тебя отпускаю, ты скоро вернёшься сама
вот набоковских бабочек рой между рёбер моих пролетел
и ты есть среди них, но заметна едва
Есть, кажется, и следы нашего горестного беспилотного времени — в такие моменты становится оправданным переход на автологическую речь, исключённая метафора. Бытность автора в Воронеже сразу же придаёт короткому отрывку актуальный и болевой смысл, состояние дневниковой вспышки времени; «стихотворение-барьер», по Игорю Волгину, где этика рождает эстетику (вопреки Бродскому), а нашу болтовню о границах поэзии стоило бы табуировать. Здесь верлибр оправдан как фиксируемая вспышка памяти.
проснулся раньше
чем открыл глаза
самолёты летят над крышей
не буду открывать
если не вижу
значит в безопасности
Там же, где появляется силлабо-тоника (скорее разбавляющая в сборнике неизбежную инерцию дневникового верлибра), она смотрится наиболее выигрышной — но и как будто символизирует уже отошедший этап работы автора, в книгу включены некоторые тексты из «Вдали от людей», написанной полностью регулярным стихом и (казалось, но лишь ошибочно) закрепившей метареалистические поиски Рыбкина. Тем не менее, именно здесь появляется прозрение другого свойства. Слышны интонации Арсения Тарковского и Ивана Жданова, речь максимально превосходит замысел и поднимается на высочайший уровень поэзии:
дым от снарядов и чёрная копоть в кострах
лесенки в небо расставлены — гладкие рельсы
мы друг за другом уходим, к составу состав
мальчики-вдохи в ещё не поношенных тельцах
где нас застал неминуемый ад
сколько же гипса вобрали в себя наши лица
воздух как птица ещё в наших лёгких зажат
всё электричество в нас не смогло заземлиться
в этом разрыве остаться нам не разрешат
сопротивляясь земле, оттолкнувшись от тела
неподготовленный взлёт совершает душа —
я полетела
Сборник Сергея Рыбкина маркирует стилистические поиски, порой столь разнонаправленные, что сложно говорить о разнообразии; так, между условными Макаровым-Кротковым сиречь Ахметьевым (линия минималистичного верлибра и моностиха) и условным Ждановым, видимо, придётся выбирать, — а поскольку «ждановская» линия преимущественно связана с дебютным сборником, то выбирать, видимо, в пользу чего-то совсем третьего. Возможно, это будет непредсказуемый выход из пространства очевидных для автора художественных возможностей, внятный лишь самому стихотворению. И всё-таки кажется, что и в упомянутых направлениях есть куда отстраиваться от «старших», двигаться в сторону совсем индивидуального голоса. Книга заостряет перед пишущим и читающим вопрос о границах поэзии — и об их расширении; о необходимости нашей осторожности при определениях «антипоэтического» (поскольку закреплено в традиции и оправдано в ней); о смежности границ разнообразия и разнонаправленности — и всё-таки чёткой разделённости этих границ внутри большого корпуса текстов. За возможность подумать над этими вопросами — моя благодарность автору.
И всё-таки особая благодарность — за лучшее стихотворение сборника, попавшее сюда из дебютной книги, абсолютно запредельное по уровню космичности:
речь развернулась улиткой, воды языком
холодоскоп перекрёстка зашкалил и сбил
я разглядел эту ночь как синяк под огнём
чуть приоткрытых светил
взвинченный выдох и грохот дыхания — клёк!
снова звенят светляки-колокольчики-грушки
сколько же шума озоновый контур сберёг
перед тобою и мной безоружный
снова кружить эти зёрна в солому, кричи —
не накричишься в заброшенном полюсе грубом
выстриг и я это поле как с солнца лучи
и разбросал наобум и на убыль
голову в небо, а тело висит над землёй
это стекло ни одна ещё тварь не пробила
влёгкую. Господи, ты резонанс речевой
незавершённого мира

Борис Кутенков // Молодая поэзия: Стас Мокин, Александра Хольнова, Матвей Цапко
06.11.2024
Борис Кутенков // Молодая поэзия: Стас Мокин, Александра Хольнова, Матвей Цапко
В ответ на предложение сайта «Поэмбук» рассказать о «молодой» поэзии, во-первых, подумалось, что не люблю определение «молодая поэзия» — полагая, что это занятие не имеет возраста, — и, во-вторых, что не верю социологии, которая помещает авторов 1982 и 1999 годов рождения на одну поколенческую планку. В-третьих же, кажется, что о тенденциях пока говорить рано, кроме одной: поэзия двадцатилетних сегодня успешно развивается вопреки социальным обстоятельствам — создавая всё новые институции (такие, как «Флаги», «Таволга», «журнал на коленке», «розамунди», «Нате», «Хлам»). Ко всем этим институциям важно присматриваться, дабы не закоснеть внутри сложившегося восприятия; знаю по другим (и стараюсь предостерегать себя), как эта инерция выступает в роли самообмана, как незнание и остановка в текущем моменте становятся заместителями иллюзии критического знания.
В сегодняшнем же обзоре — три недавно вышедших сборника молодых авторов (самая старшая, Александре Хольнова, – 1994 года рождения, самый младший — Стас Мокин — 2004-го). Каждый из них так или иначе обладает узнаваемым голосом; каждый ищет свой способ борьбы с инерцией и с большей или меньшей успешностью выходит из пространства самоповтора.
Три поэта, отражающих время в своих стихах — предельно по-разному. Три необходимых «полёта гордыни, / которая верит: я лучшее соло сыграю» (Т. Бек).
Без этих «соло» уже невозможно представить современную поэзию.
Борис Кутенков

Стас Мокин. Японский бог. — СПб. : журнал на коленке, 2024. — 80 с. Послесловие Ольги Аникиной.
Предыдущая, дебютная книга Мокина «Дневник» вышла в 2023-м и уже отражала главные черты стиля. Это, во-первых, естественное, не форсированное тяготение к детской речи, на уровне версификации подчёркнутое намеренно обеднённой строкой и сближенной рифмой («я не проснусь я буду там / читать записки по слогам / тот умер этот был убит / а тот — теперь он инвалид / как всех спасти от этих снов»). Второе (и связанное с первым, то есть наивом) — поток сознания, отражённый в сопоставлении разнонаправленных семантических рядов, в своеобразном калейдоскопе мышления, фиксируемого здесь и сейчас. Очень точно обо всём этом сказала поэт и критик Ольга Аникина в послесловии, которое можно рекомендовать всем не просто как текст о поэзии Стаса Мокина — но как тонкое эссе о сути и назначении поэзии в сегодняшние, «тёмные» времена. «Стас Мокин выбирает не просто своевременный, но и единственно возможный, органичный для самого себя способ говорения. Так может говорить ребёнок, которого насильно и неоправданно рано заставили жить в мире, где действуют законы выживания, принятые взрослыми людьми в так называемом “обществе достижений”. Язык не то что упрощён — он намеренно обеднён, словно автор послушался Введенского, который сказал “уважай бедность языка”». В какой-то момент кажется, что мелькание семантических рядов становится единственно возможным проговариванием состояния; и, что не вызывает сомнения, — именно оно создаёт глубоко индивидуальную и по-детски трогательную манеру, порой напоминающую о юродивом пророчестве. Кажется, метафизическое беспокойство, некое прозревание мира в его глубине только и возможно на фоне разговора, бесконечного заговаривания, ещё раз проговаривания сущего. «Лицо лица» — метафора, апеллирующая, вольно или невольно, к Аронзону, — есть максимально честный поворот к изнанке мира:
на небе звёздочка горит приняв спокойный гордый вид монах в горах давно сидит и ни о чём не говорит брательник не вернулся с боя и мама плачет без конца духовный путь лицо лица и нет опять в земле покоя и нужно жить — т.д., т.п
Разговор на грани возможного, способный показаться всего лишь проявлением инфантилизма и воспроизведением сбившейся шарманки, неизменно находится в зоне эстетического риска. Об этом предупреждает Ольга Аникина, обрисовывая в послесловии возможные варианты восприятия книги. Среди них есть и такой: «Вы можете сразу же возненавидеть простодушие и прямоту этих стихов, а лирического героя счесть наивным и даже инфантильным. Вы можете полностью отторгнуть его речь, где нет места ни иронии, ни цинизму, ни словесной эквилибристике — беззащитную речь, полную случайного и необязательного, а значит, речь неумелую и слабую». Даровитость уязвима; старательность и усердие неталантливого автора всегда опознаются безошибочно — как и безошибочное, интуитивное, ничем не обусловленное неусердное попадание (как в случае Мокина) автора одарённого. Более того, аргументов в адрес этой одарённости обычно нет, а те, что находятся, неубедительны и легко разбиваемы в полемике («неточное употребление слова» и т.д. — так возражают нам в критических дискуссиях). Но я помню, как моя коллега (ныне, увы, покойная) Елена Семёнова воспринимала стихи Стаса Мокина, которые я показал ей, как сумела принять их вопреки первой реакции, — эта реакция по мере чтения с монитора менялась от иронической ко всё более вдумчивой и серьёзной, что отражалось даже в мимике. В эти стихи нужно войти и абстрагироваться от привычных ожиданий — иногда такое абстрагирование предполагает серьёзный читательский труд (от «ужасно» к «непривычно, а поэтому ново и интересно»), на который способен, признаемся, не всякий. Лена смогла. Многие ли сумеют? По мере чтения сборника всё чаще кажется, однако, что этот стиль превратился в определённый приём: он создаёт обаяние, привлекает к стихам Стаса Мокина, что не может не чувствовать сам автор. Остаётся, по слову Михаила Гаспарова, «изменить себя, не изменяя себе». Иногда рифма сама подсказывает путь движения текста, ведя автора по пути наименьшего сопротивления, — и нарратор с некоторым усилием выбирается из инерционности, нарушая в финале рифменный принцип и вместо ожидаемого нами перескока в новое пространство «подводя» логику — редкого здесь гостя — к финалу стихотворения: «я жду тебя возле метро / как маленький артюр рембо / смотреть кино и плакать долго / здесь рифма бы была на слово волга / но мы застряли на неве». Думается, путь развития — предполагающий выход из пространства самоповтора — будет сложным, и возможности этого выхода намечены уже сейчас. Один из таких векторов — создание нарративных текстов, преодолевающих тяготение сюжета метафизическим жестом, своеобразной проекцией «обэриутской» странности на наше время:
кто стучит с утра до ночи в дверь в прихожей тук-тук-тук кто такой небритый злобный твой нелучший и не друг это твой сосед в коммуне в коммуналке твой сосед он пришел опять с работы ненавидит белый свет ты его не трогай лучше ты скажи ему андрей ну давай же выпьем водки ну иди сюда скорей полегчает может или станет меньше злиться он сила в правде? правда в силе? вышиб дно и вышел вон
Инерция калейдоскопа здесь нарушается в концовке, которая по-новому переосмысливает пушкинский интертекст и действует с неожиданной силой парадокса (словно хармсовские исчезновения). С другой стороны, появляется редкая для Мокина целостность сюжета — где на фоне ритма считалки рождается несоответствие, определённая семантическая игра означающего и означаемого. Другой способ — святая простота умеренного минимализма, заключённая в несколько строк вспышка сознания, облечённая в сюжет. Этот сюжет прерывается, будучи ограничен собственными рамками, и не даёт автору уйти в инерционное говорение. Таково одно из самых потрясающих стихотворений книги:
говорит онлайн-приложение: завтра у максима день рождения он погиб уже лет пять назад выпал поздно ночью из окна поругался с мамой накануне и никак настроить не могу — вычеркнуть из календаря — будто бы он жив. не сиганул из окна восьмого сентября
Прямоговорение здесь оказывается обманчивым; нарратив развивается в двух временах, настоящем и прошедшем («завтра у максима день рождения», «жив», «не сиганул» — приметы реальности как данности создают особый художественный эффект на фоне безусловного понимания происходящего читателем и автором). Третий метод «новизны», зафиксированный в конце книги, — одностишия: последние вынесены в заключительный раздел, озаглавленный «Первые строчки так и не написанных стихотворений». Такое заглавие отстраивает эти вещи от традиционного моностиха в любых его разновидностях; автор здесь демонстрирует своеобразную лабораторию «неизданного» и, возможно, способного воплотиться в целостные сюжеты. Эта демонстрация как бы нацеливает нас на будущее — Стас Мокин находится в счастливой поре творческих возможностей (при — счастливой же — определённости стиля). Путь возможных перемен внутри сложившейся поэтики — самый сложный, но и более продуктивный, чем невнятица векторов движения, зачастую отражённая в книге молодого поэта. Вернёмся к формуле Гаспарова? Или останемся при своём?
Александра Хольнова. Здесь обернёшься: ποίησις as is. — 70 с. Предисловие Владимира Гандельсмана.
В предисловии к этой книге Владимир Гандельсман останавливается на своей излюбленной теме — ставшей сквозным мотивом его книги эссеистики («В небе царит звезда», издательство «Делаландия», 2024): это защита «внелогической» стороны стихов, проявлений неочевидной авторской воли, выхода за пределы обыденного смысла. «Стихи поэтов, полагающихся на чутьё, на интуицию, на свободное проявление воли в большей степени, чем на разумное следование общепринятой логике, на «доступность», сложнее для восприятия. Конечно, это разграничение условно», — пишет Владимир Аркадьевич. Конечно, это разграничение безусловно — хотя бы потому, что подтверждено многочисленными примерами из классической и современной поэзии. К этой теме Гандельсман в своём предисловии возвращается не раз — ещё и потому не верим деликатной оговорке об «условности» разграничения: «поскольку те поэты, которые исповедуют свободу воли, ограничены разумом хотя бы потому, что находятся в умышленном, а не безрассудном»; далее — едкая ирония по поводу «разумников», которые лишь «иногда выбегают за ограду подышать непредсказуемым воздухом воли». Эти наблюдения редки в эссеистике о поэзии, и тем они ценнее, — и, думается, Хольнова в этом смысле нашла самого понимающего читателя. Вся книга — именно такая демонстрация непредсказуемого, ворованного воздуха, чуда, способности сотворения этого чуда из всего, что под рукой. В этом, конечно, ощущается влияние Ольги Седаковой с её сочетанием причудливой логики и строжайшей дисциплины — это сочетание не позволяет вещам Хольновой скатываться в произвольность. Подобные тексты, кажется, требуют от читателя лишь выключения логики и непосредственного проживания, а от автора — сотворения нового миропорядка:
... и упаду в пожухлую траву, меня убьют, и я, должно быть, вздрогну. Меня убьют: и я умру, я не умру, я не умру, пока на грязных стёклах не вырастет ещё одна резьба, гравюра, небо, карта головного мозга, пока лицо не станет солнечным пятном в серебряной тарелке плёса.
Хольновой подвластно в слове абсолютно всё. Из школьной зарисовки можно создать картину, где образы мела и доски вступают в неожиданные взаимосвязи. Интенсивная передача сна возникает с помощью приёма усиленной глагольности — подобная скоростная передача движущегося впечатления становится одним из важнейших методов в этой книге:
Синева, потеря, земля мала; свирепел, смеялся, жужжал и пел. Болевой порог, я шагнул, а там череп мой рассыпался в школьный мел. Невесёлый школьник, я тоже — был, мел стирался в пыль о квадрат доски. Вспоминал и плакал, устал, простыл. Мела полон рот, и — конец строки.
Можно сотворить микс шансонной песни и мандельштамовско-тарковской просодии — наполняя метафорический строй принципиально новой энергией:
Зарево, золото Бог весть каким улицам кладбищам я говорил. Разница, пасынок, олово олово, золото набело, красное около. Девочка глупая, золото зарево, издана заповедь, песня вокзальная. Яростно весело, вот тебе раз, любит-не любит-помнит о нас. Косточка ласточка, наголо намертво встань со мной, золото, девочка, зарево.
А можно включить расхожий набоковский претекст в зону неожиданных семантических связей, намекая на историю современного эмигранта или, если угодно, релоканта (претекст, для сегодняшней жизни уже ставший новообретённой хрестоматийной формулой, — и потому способный оказаться вторичным). Хольновой удаётся и это: слово «овраг» здесь оказывается «между», получая вслед за набоковским сном-воспоминанием дополнительное значение пропасти, устрашая, семантизируясь.
Но я не запомнил и вряд ли хотел. Возвратный глагол за живое задел: вернешься-вернусь-в завязавшийся мрак: черёмуха, звёзды, — а между — овраг.
Проблема, кажется, может возникнуть одна — и неочевидная, и многим читателям этих стихов справедливо кажущаяся неактуальной. Как, сотворяя многообразные художественные миры, задеть за живое — возвратным ли глаголом, невозвратным, чем-то ещё? Как выйти из инерции метафорического говорения — инерции стиля, как и в случае Мокина, но на других основаниях? Вспомнив слова Гандлевского: «Литература просторна, и в ней непросто, но можно научиться худо-бедно сводить концы с концами — и в профессиональном, и в житейском смыслах. Получать удовольствие от собственного труда и скрашивать досуг читателю, если повезёт — заслужить премии и звания. И при всем при этом не сказать ни одного живого слова, никого не задеть за живое, когда у самого поэта, а потом и у читателя мороз проходит по коже». (Эссе «Волшебная скрипка»). Хольнова задевает. Так, в одном из лучших стихотворений внезапное «мы», часто работающее у других как ненужное обобщение, оказывается значимым свидетельством о времени. А образ «снаряда в темноте» — на фоне «паука» и «пряток в детской постели» — переосмысленным, беспомощным, чем-то вроде такого же паука, крадущегося и не знающего о следующем шаге.
Не надо, не будем. Расшатанных фраз, оборванных фраз и ненужных я был человек и я был без прикрас прекрасным внутри и снаружи. Мы были задеты, а ты нас терпел; просил — мы смеялись и пели. Теперь я паук и ползу по стене. Теперь мы звучим, как снаряд в темноте, и прячемся в детской постели.
В конце концов, приведённый текст можно воспринять как формулу о поэзии, взыскующую всё тех жее уязвимости и незащищённости. «Оборванное», «ненужное», «расшатанное» создаёт прекрасный контраст плетению прекрасного парчового узора. И такого контраста от будущих книг Александры Хольновой хочется больше.
Матвей Цапко. Экранка. — Краснодар: ВНОВЕ, 2024. — 78 с. Предисловие Романа Шишкова, послесловие Ольги Балла-Гертман.
В этом сборнике слово «любовь» и производные от него повторяются бесконечное количество раз. Кажется, именно любви герой Матвея Цапко взыскует больше всего — умея находить её в малости материального мира и горько иронизируя над этой материальностью: «обнимаем телефоны / после каждого сообщения»; постоянно сравнивая мир осязаемый, вещный, и призрачно-далёкий: «что фонарик твоего телефона / ярче любой звезды». «Куртка о двух вешалках» — название первого раздела — многоассоциативная метафора, подчёркивающая и одиночество, и тяжесть любви, притяжение сердца к сердцу. Пронизывающая эти стихи тяга к неодиночеству дарит русскому языку меткие формулы:
в любви боготворишь несовершенство русского языка
Здесь слышится и разговор влюблённых, и аллюзия на пушкинское «без грамматической ошибки…». Но минималистические стихи Цапко требуют особого внимания к паузам, тонким смысловым нюансам — в них так или иначе становится значимым всё, от межстрофного пробела перед последней строкой, до многоаспектного слова «боготворишь»: метафора сотворения Бога, обретая первоначальный смысл, буквализируясь, ещё теснее примыкает к любви. В какой-то момент грамматические нюансы начинают существенно видеоизменять смысл стихотворения — и здесь особенно важно прислушиваться к ним:
1. тебе от меня 2. мне от тебя
Предлог «от», вынесенный на отдельную строку, может обозначать важность подаренного и/или произносимого — исходящую от лирического героя; расположение его в одной строке со словом «мне» говорит о противоположных чувствах героини. Персонажная сценка, таким образом, становится очередной меткой формулой невзаимности. Таких персонажных спектаклей — разыгранных с большей или меньшей степенью нарративности — здесь довольно много: автор — их умелый режиссёр, суфлёр и активный герой в одном лице. В другом примере значимым становится письменное разграничение фразеологизма, вынесение слова на отдельную строку:
а потому что больше не мог а потому что внутри костерок довольно-таки просто разжечь ведь для этого нужно всего ничего
Если «разжигание костерка» видится довольно-таки тривиальной метафорой, то один анжамбеман меняет характер высказывания: «всего» и «ничего» предстают как отдельные и едва ли не контрастирующие, антонимичные сущности. Вряд ли, однако, стоит чрезмерно сосредотачиваться на лингвистической стороне материала — мировоззренческое тут не менее важно. Герой Цапко обладает мудростью всё так же взыскующего ученичества — умея извлекать внутреннее благо из вынужденных отсутствия и потери:
школьник два раза студент умерла мама умер папа учится
Об этом стихотворении точно пишет в предисловии поэт и литературный критик Роман Шишков — о «горечи невозможного взросления», о «вечном» студенте. Хочется прибавить, что это вечное ученичество — не равное самоощущению дебютанта — есть и мудрая взвешенная позиция, в которой слышится налёт печали. Сдержанное «учится» здесь выступает в тройном значении — кроме самоочевидного, связанного со студенчеством, это урок жизни, но и бесконечное «упражнение в смерти», по формуле Бродского. Если в условно минималистических стихах обязательность смыслов и пауз незримо подчёркивается, то в более объёмных (и часто обладающих нарративной структурой) видимая необязательность и непредсказуемость становятся синонимами лёгкости и свободы, своеобразного отпускания слов на волю, что не мешает вполне осознанной режиссуре. «Образы ситуативны и диктуются скорее мгновенными внутренними движениями» (Ольга Балла в послесловии к книге). Эти «внутренние движения» сообщают текстам неизменное обаяние и лёгкость (о каких бы драмах ни шла речь), но лишены искомой собранности и цельности. Возможно, будущий путь развития — в том, чтобы уйти от старательного поиска мастерских и точных метафор (которые интересны скорее как предмет филологического наблюдения), в более интуитивном развитии стихотворения. Впрочем, игровое начало, с одной стороны, и определённый рационализм построения, с другой, неотъемлемы от поэзии Цапко. Лукавый нарратор этих стихов, всегда украдкой оглядывающийся на читательское восприятие, порой использует речь в скобках — в такие моменты включается внутренний критик, комментатор, заигрывающий с читателем и понимающий условность произносимого:
прости (разве стихи начинающиеся с прости все ещë остаются стихами?) ты не знаешь ты в душе а я здесь уже тут уже там уже всë
«Выглядывание» из стихов, пространство игрового комментирования, поза созерцателя этого пространства со стороны здесь — важный приём, в котором, однако, стоит не увязнуть, как в любом самоповторе. В лучших вещах этой книги затейливость не мешает искренности, становясь элементом вездесущей авторской иронии и лёгкости существования. Очень необходимой нам сегодня лёгкости.
Борис Кутенков для Поэмбук https://poembook.ru/id127178