Настройки уведомлений
Получать уведомления следующих категорий
Уведомления
В категории "Все" уведомлений нет
Альбом
АльбомАнонсыИщу критика!Интервью с...Литературная ГостинаяДа или Нет?Около рифм#Я стал богаче...Редакторский портфельПоэтическое обозрение с Борисом Кутенковым
Награды старожилам и всем-всем-всем

За один год на Поэмбуке - ставить 1
За два - 2
За три - 3
И далее по срокам...
1
Подарить звезду
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
Старожилу...
Я на сайте публикуюсь и пишу десяток лет. Вот скажи, какого буя у меня награды нет за то, что десяток лет я публикуюсь здесь, пишу..?
Хоть червончиков "котлету" - я вам не бесплатный шут!
0
Подарить звезду
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
Почему нет награды старожил поэмбука?
Я на сайте публикуюсь и пишу с разной активностью последние лет 12, наверное, примерно с момента основания.
И что, никакой награды за это не полагается?(
0
Подарить звезду
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
ИТОГИ. Формирование команд.

АПИ "Чёрная курица":
1 место - Виктория Север
2 место - SVET56
3 место - G. ANAHIT
Авторы с 1 по 5 место получают по 50 серебра (монетки переведены).
И вот что у нас получилось для командных соревнований:
1. Капитан - Влад Южаков
члены команды - Гера Си
- Лиза Виолонова
- Кировский Андрей
- Виктория Север
2. Капитан - Kaibē
члены команды - Лива Прос
- Аделина Мирт
- Ирина Полюшко
- Елена Наильевна
3. Капитан - Shifer_dark
члены команды - Наташины рифмы
- Лев Белый
- Ляхов Владимир
- Соколова Вера
4. Капитан - Вarklai
члены команды - G. ANAHIT
- Инесса Полянская
- Эммануэль
- SVET56
(Уважаемые члены жюри- вас десять и вы тоже можете принять участие в командном конкурсе, который пройдёт в июле, нужно только написать мне в личку, что вы согласны и тогда я сформирую ещё 2-ве команды) -
к сожалению, а может к радости - я не уверен, никто в личку ко мне не пришёл и не изъявил желание, поэтому пятой команды и шестой найн...
Капиты - посовещайтесь между собой, предлагайте дату, могу запустить конкурс хоть сегодня, если будет желание. (3 этапа, оценивание от 20 до 1 балла, приглашённое жюри, 3 этап - финальный и 147 монет в призовом фонде, если есть спонсоры - приветствуется)
https://poembook.ru/contest/2555-api---chyornaya-kuritsa
0
Подарить звезду
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
Вечерние стихи. Итоги второй игры июня
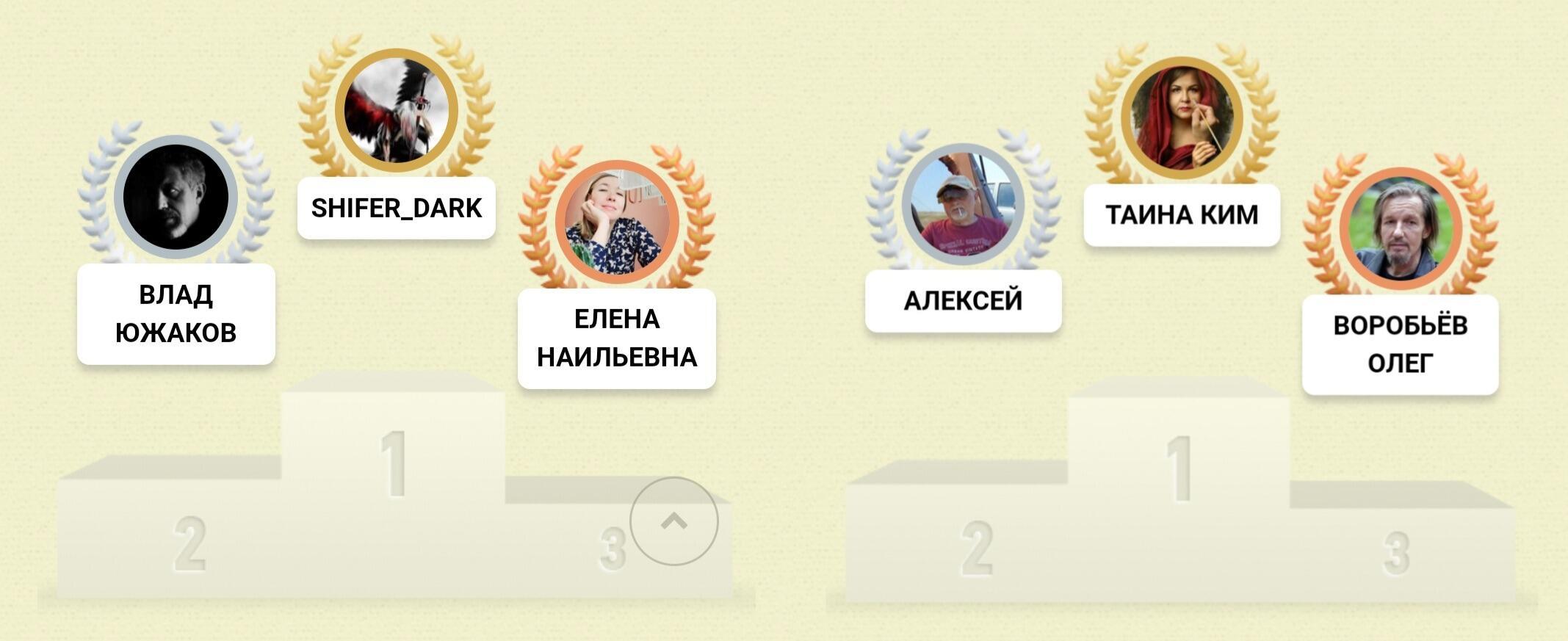
Вторая игра июня завершилась, итог - шесть призёров по оценке жюри и ещё шесть призёров по народному голосованию:
Опубликованные стихи:
Разумовская Ольга 1 место
Тимашева Светлана 2 место
Виктория 3 место
Новые:
Степанов Андрей 1место
Кнутова Марина 2 место
Южаков Влад 3 место
Народным любимцам по 10 серебра.
Также поздравляю всех участников- всех победителей своих мест!
К сожалению, судья Геннадий Антонов приболел и не смог участвовать в судействе. Пожелаем ему скорейшего выздоровления!
Двум наиболее отличившимся читателям, отыскавшим наибольшее количество турецких следов в стихах - перевод по 15 серебра. Это о.Митрий и К.
Спасибо огромное!
Ребята, я пока на отдыхе, приеду и обязательно подведу итоги игры более развёрнуто и конечно расскажу о находках читателей по моему заданию!
Спасибо всем за участие, оценки, комментарии и стихи!
1
Подарить звезду
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
"Сделай мне приятно" ( из репертуара Кая Метова)
Читаю порой отзывы в конкурсах. Не спрашивайте, зачем и чего ищу. Сама не знаю. Но вот что отметила для себя сегодня. Конкуренцию комментарию "хорошее" составил комментарий "приятное". Сидела и думала: что же способно выбесить больше?
Хуже могло быть только "вкусное". Давайте, товарищи комментаторы, пробейте дно.
Не, ну, "приятное"! Если бы такое написали мне, я бы уж спросила ув. комментатора, в каком месте я сделала ему приятно (не имея в виду место произведения).
Люди, вас под дулом пистолета, что ли, заставляют писать отзывы к этим несчастным сироткам-конкурсным стишкам? Ну признайтесь! Ну висят они никем не замеченные и висят, и бог бы с ними, зачем вы, словно собачки, помечаете территорию? У вас мания спасательства? Вы хотите спасти бедняжку? Или мания величия, и вы думаете, что у автора срезонирует ваш оргазм, выраженный мощным и ёмким словом?
1
Подарить звезду
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
июльское

Какое бы ни было лето, на него, как и на родителей, злиться и роптать не позволительно. Лето - поток жизненной энергии, который на пути своём сносит всё, что противоречит ей. Лето как большое уютное одеяло над нами, и не важно какая за бортом погода, дожди ли, ветра с прохладой ли - это всё летние наряды, которые оно кокетливо примеряет. Порадуемся вместе с ним и одарим его комплиментами, лето их всегда заслуживает.
Люблю сидеть на веранде в деревне и пялиться на летние дожди - долгие нудные или проливные, с радугами или без, созерцать буйство мокрой зелени. А дома, с приездом частых гостей, я переместился спать на балкон, к птицам, к музыке дождей и ветров, и там намного лучше.
А вот ещё одна радость. Созрел мой любимый Короставник полевой, сердце ëкает каждое лето при первой встрече с ним. Цветок этот относит меня в царство света - к детству, бабушке, коровам, сосновому лесу и звездам, к духу любознательности, очарований и надежд. Всё это вместе навсегда отпечаталось в глубинах души.
А у вас есть любимые летние цветы или связанные с дорогими для вас воспоминаниями?
0
Подарить звезду
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
1 июля - День Куриного бога :о)

/ моё ленивое хобби / Желаю Удачи Добрым и Справедливым!!!
Куриный бог неоднократно упоминался в стихах, рассказах и показан в к/ф
0
Подарить звезду
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Итоги #Я стал богаче… Лето согревает
29.06.2025
Итоги #Я стал богаче… Лето согревает

Благодарим всех авторов, поделившихся эмоциями!
Лучшие из публикаций будут периодически появляться в рубрике Выбор ПБ.
- Многоточие #Я стал богаче… строками, которые согревают вне сезонов
- Олег Новиков #Я стал богаче… Просто кайф!
- Карыч #Я стал богаче на стихи
- ВикторияСевер #Я стал богаче. Лето в гостях у мафии
- Шерридан Элли #я стал богаче на стихи...
- Лев Белый #Я стал богаче, не иначе
- СВЕТЛАНА "Я стал богаче... Мой первый круиз"
- Аделина Мирт #Я стал богаче… на миры
- Вован бездомный #Я Стал Богаче на Кошачью Лирику
- Виктория Север Я стал богаче этим летом
- Савостьянов Александр #Я стал богаче на стихи
- VILKOCZYNSKI Богуслав #Я стал богаче… Лето согревает
- Татьяна Постникова # Я стал богаче на стихи. Городская пастораль
- Cript13 #я стал богаче на стихи
- Сащенко Тамара #я стала богаче
Напоминаем, рубрика "Я стал богаче..." регулярная. Не теряйте жемчужины)
Хороших нам стихов и эмоций!
0
Подарить звезду
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
Технический вопрос
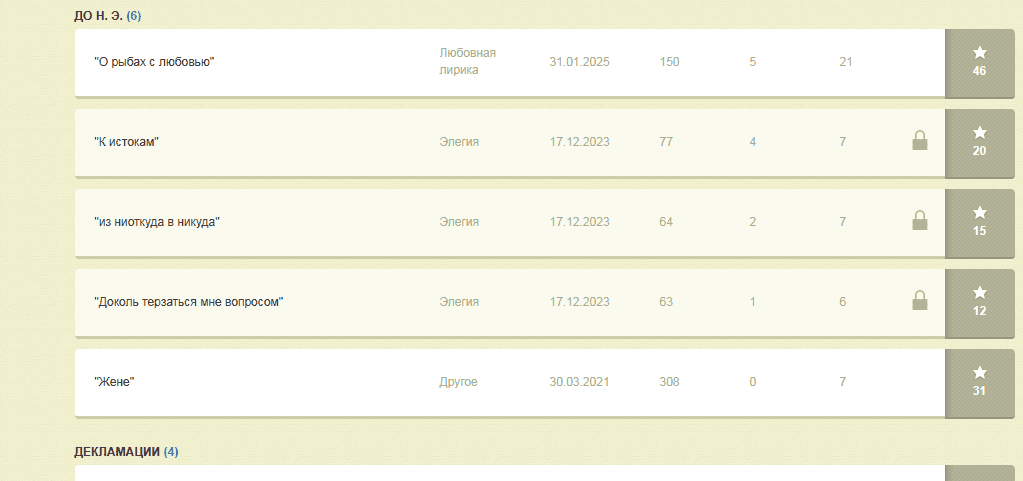
Люди, кто-нибудь столкнулся с подобным, как на скрине? У меня стихи разбиты по разделам, в основном по годам. В этом разделе (скрин) должно быть 6 стихов, а отображается 5. В разделе 2025 г. должно быть 25, а отображается 12. За 2024-й год – 29/29, т.е. всё норм. 2023 –42/12. 2022 – 36/11. 2021 – 25/12. 2020 – 19/13. И т.д. Один раздел вообще пропал.
Я почему вынес на всеобщее? Где-то месяц назад уже обращался с этим вопросом к Лене Лесной. Оказывается, такой баг уже был раньше. Починили. Успокоился и забыл. А сегодня опять глянул и решил посмотреть, как у других. Зашёл к нескольким авторам на страничку, человек 6-7. У всех всё нормально. Количество на счётчике совпадает с реально отображаемым. А у меня нет. Может это только автор так видит свою страницу? Или всё же у кого-то та же фигня? И на компе и на телефоне одинаково.
1
Подарить звезду
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

















