Альбом
МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ...
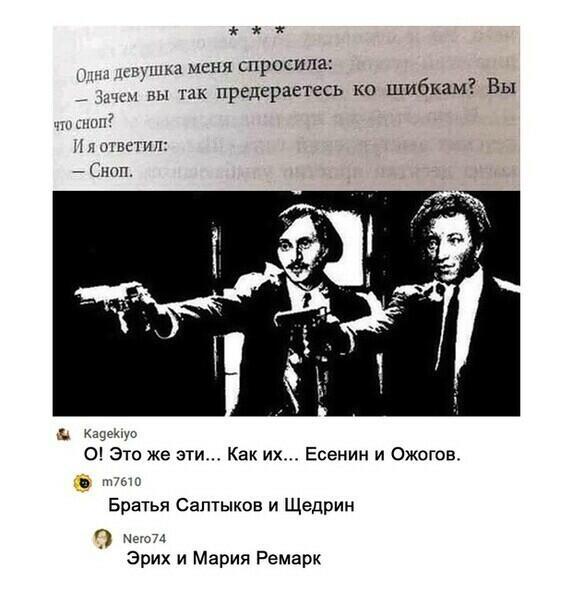
Рождественская "Небайка"
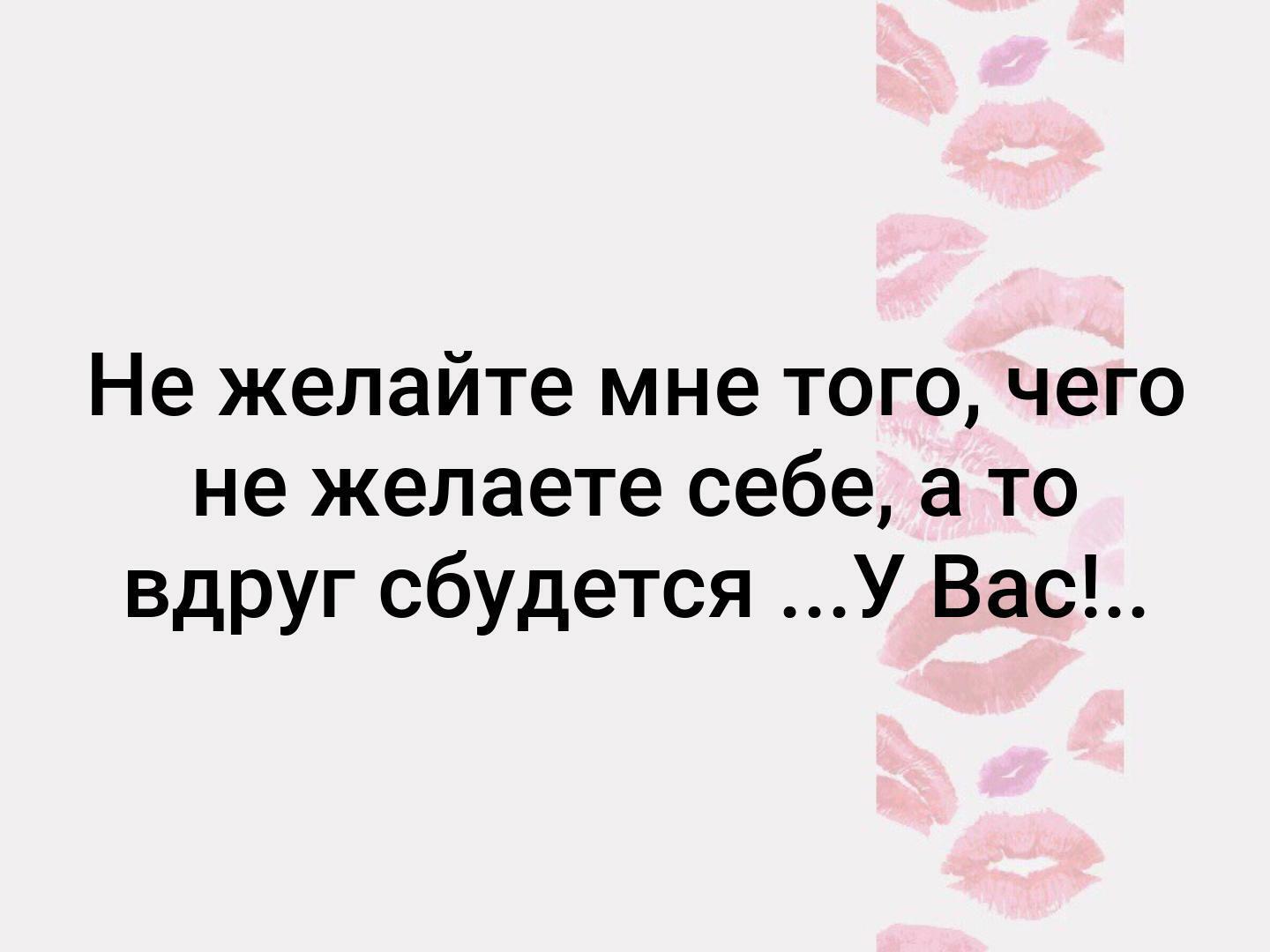
Третьяковой-Серёгиной - УРА!!!

Родина...
Изменения правил голосования в конкурсах.
New year's mood, welcome!

Фонетика.

Литературная Гостиная

Автор рубрики: Иванна Дунец
03 января 2021
«О раскаянии и прощении»
|эссе|
Я мечтала написать об этой пьесе и постановке ещё пару Чтений назад. И вот, наконец, представилась такая возможность. Дело в том, что данной пьесы, как литературного произведения, не существует. Она была написана исключительно для театральной постановки современным французским драматургом и режиссёром Дидье Кароном три года назад, но узнала я об этом именно потому, что, посмотрев спектакль, настолько была под впечатлением, что тут же загорелась желанием прочесть первоисточник.
Речь пойдёт о пьесе «Фальшивая нота» в постановке Санкт-Петербургского Государственного Академического театра им. Ленсовета с Артуром Вахой и Семёном Стругачёвым в главных ролях. Собственно, других актёров в спектакле не задействовано. Пьеса написана и поставлена для двоих. И это удивительный диалог, который длится почти два часа, в течение которого с героями происходит совершенно невероятная метаморфоза. В отличие о многих зрителей, наверняка шедших посмотреть на двух любимых актёров, которые в сознании многих, прежде всего, ассоциируются с комедией, я, изучив анонс, предположила, что всё будет не так очевидно. И мне очень хотелось посмотреть на Стругачёва – драматического артиста. Образ Лёвы Соловейчика настолько прилип к нему, что мне хотелось убедиться в том, в чём я уже убеждалась не раз – можно быть заложником одного амплуа в кино, но театр всё расставит по своим местам. Так было в своё время с Бехтеревым – вечным благостным недотёпой в кино, и сыгравшем такого монстра в «Бесах», что аж мороз по коже. Или с Александром Новиковым, играющим в кино добродушных пухляшей и, вместе с тем, удивительно несчастных и трогательных Жевакина и Дядю Ваню на сцене.
Я не ошиблась. Прекрасная игра двух потрясающих актёров. Но и материал оказался прекрасен. Им было, что играть. Страшная история, продолжением которой явилась не менее страшная история, разыгрывающаяся на сцене. А начинается всё вполне в комедийном духе. Всемирно известный дирижер Миллер, только что завершивший концерт в Женевской филармонии, недоволен оркестром, который, по его мнению, играл сегодня из рук вон плохо. Он раздражён и раздосадован. Миллер – звезда и ведёт себя по-барски. Его жизнь безукоризненна, как белоснежный воротничок его рубашки или обстановка грим уборной. Всё на своих местах, никаких фальшивых нот — ни в музыке, ни в жизни. Он только что получил приглашение возглавить Берлинскую филармонию. И помехи, типа нежелания жены и дочери ехать с ним, его только раздражают. А тут ещё в гримерку врывается странноватый восторженный поклонник, расточая комплименты. Этот прилипала Динкель (с одним «эль», пыжалста) никак не отстанет, придумывая всё новые надуманные поводы для того, чтобы снова появиться в гримёрке: то ему автограф, то фото (причём, обязательно со скрипкой), то он забыл передать дирижёру подарок. Он смешон и даже неприятен в своей навязчивости с этими «пыжалста», «прстите» и «спсибо».
Миллер едва сдерживается, насколько позволяет воспитание, но уже на грани того, чтобы выкинуть этого сумасшедшего из гримёрки. Всё это происходит на фоне смеха зрительного зала, а я – жду. То, что Динкель не так прост, ясно сразу. Есть в нём что-то неправильное, даже маниакальное. И наконец, наступает тот момент, когда вечер перестаёт быть странным и становится страшным. В тот момент, когда гость скидывает маску шута и являет лицо человека, который пережил такое, что быть смешным – последнее, что он боится на этом свете. Он запирает дверь гримёрки и достаёт пистолет. И зритель узнаёт то, что сорок лет один из них пытался забыть, а второй – забыть и отпустить. И даже узнав правду, продолжает сочувствовать герою Вахи. В его прочтении он не так уж однозначен. Да, в нём нет раскаяния, но и равнодушия нет. Он всё помнит, и ощущения мальчишки, которого отец заставил взять в руки пистолет и совершить преступление не отпускает его до сих пор.
А Динкель? Несмотря на весь ужас его истории, его гнева и желания справедливости и возмездия… его жаль не за это, а за то, что он потратил жизнь на поиски этого человека, на вынашивание плана мести, на то, что разъедало его изнутри и не давало жить полноценной жизнью, в отличие от его визави. Но прошлое настигает их обоих. Их, которые были ещё мальчишками сорок лет назад, тогда во время войны, в концлагере, где отец Миллера был комендантом и воспитывал сына в «духе времени», а отец Динкеля, как и он сам – узниками этого концлагеря.
Бельгийский еврей музыкант и его сын, которые каждый день в числе таких же музыкантов стояли у ворот на морозе и играли Моцарта, потому что Моцарта обожал комендант лагеря. Он боготворил Моцарта, музыка, которого прославляет жизнь, а сам был совершенно равнодушен к человеческой жизни. И приказал расстрелять скрипача, который допустил фальшивую ноту, и, тем самым «испоганил Моцарта». Приказал своему сыну. И тот не посмел ослушаться.
Мне кажется, что Моцарт выбран не случайно. В этом тоже содержится важный вопрос. А что сам Миллер? И можно ли быть в этом случае выдающимся музыкантом? Под дулом пистолета Динкель заставляет дирижёра снять халат и рубашку, встать у открытого окна, из которого дует зимний ветер и играть на скрипке ту самую Серенаду № 13. Пообещав, что оставит его в живых, если он сыграет до конца, ни разу не сфальшивив. И трясущийся от страха и холода Миллер допускает ошибку за ошибкой.
— У меня нет выбора. Вы сфальшивили, и я должен вас наказать. Ты испоганил Моцарта! И ведь это всего лишь холод, не мороз.
— Подождите. Чего вы хотите? Я всё сделаю!
— Ты умеешь воскресать мёртвых?
— Я не хотел!
— Почему же ты не отказался?
— Но, это был мой отец!
— А то был мой отец.
Это пьеса о прошлом, которое никогда не заканчивается: кого-то не отпускает, кого-то настигает; о трагедии, затерявшейся среди миллионов таких же; о цене жизни; о выборе; о сохранении человеческого в себе в нечеловеческих обстоятельствах; о возможности раскаяния и прощения.
Герои поменяются местами к концу пьесы. Смешной гость станет фигурой, поистине трагической, и в итоге придёт к осознанию бессмысленности и безжалостности мести. А дирижёр ощутит в полной мере падение с высоты собственного превосходства, осознав, что испытывает человек, по-настоящему, загнанный в угол, фактически пережив крушение собственной жизни. Да, в душе Миллера изначально нет раскаяния, а в душе Динкеля – прощения. Именно поэтому эта встреча была им необходима. Им обоим. Одному для того, чтобы осознать, пережить и не забыть до конца дней. Второму – чтобы отпустить и обрести покой.
Появившийся на сцене пистолет всё же выстрелит, но... холостыми патронами. Динкель признается, что никому ничего не рассказал, и толпа на улице под окнами — это всего лишь восторженные поклонники маэстро, а не желающие «поднять на вилы» бывшего военного преступника журналисты. В конце спектакля на сцене рядом сидят два уставших, уже немолодых человека.
— Счастливого возвращения в Берлин, господин Миллер.
И это, наверное, справедливый финал, ведь месть – не удел человека. Удел человека – научиться раскаиваться и научиться прощать. Так считал отец Динкеля, которого тот так сильно и искренне любил.
Опус о рифмах – внешних и внутренних.

Первое













