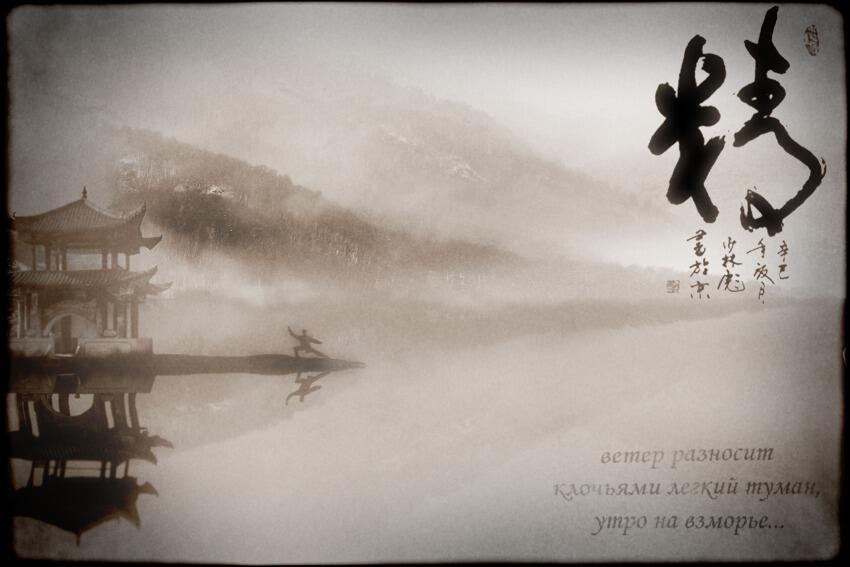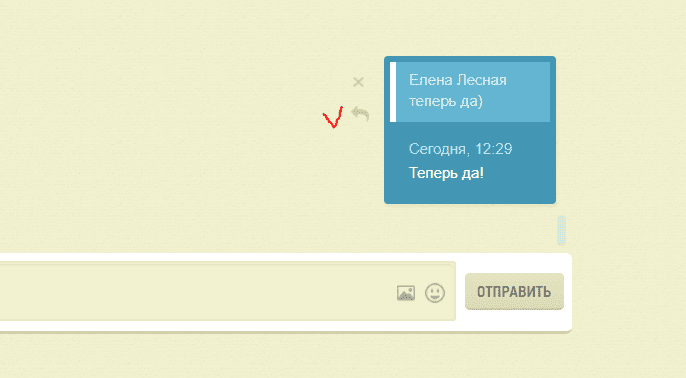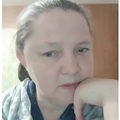Марина Якимович (Марина): Ренарт, я благодарю Вас за согласие дать интервью. Расскажите моим читателям о себе. Я знаю, что Ваше детство прошло в военном городке. А это совершенно удивительная атмосфера, детство, проведённое в военной части, совершенно не похоже на детство других детей. Расскажите об этом. Как думаете, Вам с этим повезло?
Ренарт: Да, мой отец служил в ракетных войсках, поэтому до 16 лет я жил в военных городках на Урале. Сначала в Свердловской области, потом в Челябинской. Что могу сказать… Действительно, это совсем особый мир, замкнутая система, в которую так просто не попадёшь и из которой так просто не выберешься. Вход через КПП с паспортным режимом, чужих нет по определению. Полсотни пятиэтажек, население в районе пяти – восьми тысяч, рядом часть. Криминала нет от слова совсем, ключи от дверей под ковриком спокойно оставляли. По крайней мере, до начала девяностых было так. Когда я в 1996 году окончил школу и уехал, случалось уже всякое.
Взрослым, наверное, жить в таких местах скучновато, но в детстве всё кажется интересным. Тем более, что нам-то стена, которой был обнесен городок, помехой вообще не являлась. Все ходы-выходы мы знали, при желании хоть полк диверсантов провести могли бы. Часть от самого городка была отделена ещё одной стеной, но мы и туда спокойно шастали, чтобы поиграть в войнушку.
Только не надо думать, что военная техника, погоны и фуражки на каждом шагу как-то милитаризировали сознание – нет, всё воспринималось как обычная часть пейзажа. Ну вот такой антураж просто был. Жил бы в деревне, имел бы другие декорации вокруг. Куда важнее было другое.
Военные городки отличаются крайней текучестью своего населения. У людей там нет прочных корней, зато должна быть вечная готовность сорваться с места и отправиться куда угодно, хоть на другой край страны. Так что периодически к нам посреди учебного года приходили новенькие. И точно так же уходили старенькие. В итоге очень быстро привыкаешь к ощущению, что ты тоже раньше или позже должен куда-то двинуться.
Это напрочь отбивает у тебя само понятие малой родины, своей земли под ногами. Но, возможно, даёт более острое чувство родины большой. Один мой друг родился на Байконуре, другой в немецком Потсдаме, с третьим я простился в пятом классе, когда он навсегда уехал в Мурманск. Мой отец после окончания Ростовского военного училища мог отправиться не в Нижний Тагил, а на Украину – в Николаевскую область. Такие у меня уроки географии и краеведения.
Марина: Скажите, сначала Вы закончили филологический, а потом магистратуру по истории. Почему такой вираж? Вы утратили интерес к лингвистике?
Ренарт: Нет, не утратил, тут дело в другом. История в школе всегда была моим любимым предметом. Когда нам выдавали учебники, то в первый же день я целиком проглатывал учебник по истории – просто как настольную книгу. Поэтому, когда я приехал в Магнитогорск поступать, то до самого последнего момента колебался, на какой факультет подавать документы. Очень хотелось на истфак. Но литература победила.
Я никогда не жалел об этом решении, оно было совершенно правильным. История для меня всё-таки это увлечение, это жутко интересное хобби. А книги, слово – это явление высшего порядка, фундамент моего мировоззрения. В конце концов, стихи я тогда уже писал, так что приоритеты были расставлены.
Но от некоторой тоски по оставленной в стороне тропинке я долго не мог избавиться. Хотелось узнать, каково это – учиться на историческом… И тут внезапно мне предлагают пойти в магистратуру на историка, четыре места на факультете открылось, надо только сдать экзамены. Из чистого любопытства я поступил, отучился и защитил диссертацию. Работу писал по восприятию в СССР феномена европейских «новых левых».
Марина: Бытует мнение, что историю наукой трудно считать в силу того, что она постоянно пишется в угоду правящему классу, и что нет такого исторического события, которое бы не перерассматривалось, перетрактовывалось и в фактическом, и в идеологическом смысле. Насколько это правда? Что Вас привлекает в истории? Почему Вам так дорого это?
Ренарт: Давайте я начну с конца, так удобнее ответить. Для меня история неотделима от современности и от того, что называют футурологией. Прошлое, настоящее и будущее – это всё единое полотно, на котором происходят разные события, ткутся разные сюжетные линии. Понимаете, куда я клоню?
В общем, это всё на самом деле сродни литературе. Огромная эпопея в тысячи томов. И где-то в середине на энной странице находимся мы. Тот, кто интересуется лишь современностью, читает только текущую главу, да и то не полностью, а так – пару абзацев сверху, пару абзацев снизу. А изучение истории позволяет приподняться и прочитать солидный кусок книги, благодаря чему твоя собственная глава становится понятнее и объёмнее.
Наверное, это даёт возможность спокойнее относиться к своей собственной жизни. Хотелось бы добавить – и к событиям, происходящим вокруг. Но нет. Плох тот читатель, который не чувствует пульс книги, не переживает за её героев и не жаждет благополучного разрешения всех драматичных завязок. Так что умудренного философа, поглядывающего на всё с высокого холма, из меня не получается. И нервные клетки трачу, и пальцы кусаю.
Ну а теперь про то, что история не наука. Это какая-то позиция радикальных технарей, для которых наукой является только физика и её производные. Гуманитарный цикл дисциплин сам по себе подразумевает многочисленные интерпретации фактического материала. Разность трактовок исторических событий – это тоже часть истории, причём одна из важнейших.
С тем же успехом можно говорить, что литературоведение – это не наука. Потому что там тоже с течением времени меняется отношение к тем или иным произведениям. Да и внутри одной и той же эпохи друг с другом борются разные литературоведческие школы. И точно так же громоздятся мифы и фальсификации, и точно так же их периодически опровергают. Или подтверждают, когда выясняется, что вовсе это не миф. Историю «Слова о полку Игореве» можно привести в пример.
Марина: Я благодарю за ответ. Он порадовал. Я "заберу с собой" две цитаты из него.
"...Тот, кто интересуется лишь современностью, читает только текущую главу, да и то не полностью..."
"Плох тот читатель, который не чувствует пульс книги..." Это достойно стать афоризмом.
Однако продолжим. Говорят, что счастлив тот, кто утром с удовольствием идёт на работу, а вечером с удовольствием возвращается домой. Сейчас Вы работаете в журнале. Расскажите моим читателям о своей работе. Что Вы находите в ней. Она приносит удовольствие? О чем Вы рассказываете своим читателям? О людях? О достижениях общества в промышленности? О новостях науки и культуры? Есть ли момент рутины в Вашей работе? Легко ли Вы её переносите?
Ренарт: Честно говоря, когда я приехал в Санкт-Петербург пять лет назад, я был готов взяться за любую работу по журналистскому профилю. Теоретически меня могло занести куда угодно. Писал бы сейчас про систему образования, или про театры, или про медицину. Но так сложилось, что я попал в судостроительную тематику, стал выпускающим редактором морского журнала «Корабел.ру» и пишу про верфи, ледоколы, про закладку танкеров, про строительство фрегатов, про капитанов и моряков, про Северный морской путь и всё в этом духе.
Хотите – называйте это совпадением, хотите – судьбой, но для меня всегда море имело особое значение, хоть я и прожил почти всю жизнь там, где до любого берега полконтинента топать надо. Даже по моим стихам это видно – там удельный вес солёной воды на единицу текста, как у художника-мариниста на единицу холста. Впрочем, для романтика это нормально, корабли, паруса, волны и чайки со времен девятнадцатого века в числе самых важных примет романтизма.
С другой стороны, до начала работы в журнале вся морская атрибутика у меня была книжной по происхождению. Использовалась в первую очередь в качестве метафор и условных сигналов. А тут мне довелось вживую облазить сверху донизу не одно судно, побывать на всех этапах его рождения – от закладки до сдачи, пообщаться со многоопытными капитанами, с курсантами, механиками, конструкторами и инженерами. Даже под парусом походить. И в стихи тоже началось просачиваться – вся морская тематика в них стала более детальной и объёмной.
Марина: Я знаю, что с Вашей супругой Вы единомышленники и большие друзья. Вами совместно создан поэтический дуэт MARE NOSTRUM. Расскажите моим читателям об этом?
Ренарт: А это как раз продолжение того, о чём я только что рассказывал. Мы с Настей однажды посмотрели на наши стихи повнимательнее и вдруг осознали, что оба пишем про море. Только с двух разных сторон. У меня это в первую очередь то, что происходит на его поверхности: парусники несутся к гибели на скалы, одинокие смельчаки выходят в открытый океан на крошечной лодчонке, пираты возвращаются на берег после многолетних скитаний. А у неё излюбленные темы – это подводные глубины и их обитатели. Как реальные, так и сверхъестественные. В Настиных стихах живут русалки и сирены, там медленно качаются водоросли и рыбы прячутся в затонувших кораблях. Если взять наши стихи и соединить их друг с другом, то получается настоящая морская вселенная.
Сначала мы это просто подметили как интересный факт. Потом задумались. А потом решили, что это прекрасная идея – выступать вместе с подборками стихов, связанных единой концепцией. Мне кажется, такого ещё никто не делал, и это самое классное. Поэтические дуэты бывали, но вот поэтических дуэтов в морской тематике точно не было. Если кто-то вспомнит, сильно удивлюсь.
Марина: Вы любите Питер. Почти все мои респонденты из Питера признались в любви к этому городу. Я сама люблю в Питере бывать. И всё-таки для каждого человека он свой. Вот Марина Южакова говорит о том, что это совершенно живой организм. А что Питер для Вас? За что Вы его так любите?
Ренарт: Вот я говорил выше о том, что у меня нет чувства малой родины, нет корней и вообще состояние перекати-поле я воспринимаю как самое естественное, что только может быть. Сейчас скажу вещь, которая всему этому странническому пафосу вроде бы противоречит. В Питере я с первой секунды ощутил себя так, как будто приехал домой после долгих странствий. Каждая улицы, каждый дом, парки, каналы, пешеходные переходы и трамвайные линии – всё кажется родным и с детства знакомым.
Но на самом деле тут нет никаких противоречий. Потому что Петербург – это вообще не город. Это оживший миф. Ну представьте, например, что толкиенист внезапно оказывается в Средиземье, путешествует через Вековечный лес, встречается с Томом Бомбадилом. Тут практически то же самое – ты попадаешь в то пространство, которое всегда жило в твоём сознании.
Петербург настолько литературный город, что его обитателем невольно становится любой, кто знаком с русской классикой. Для этого даже не надо в него приезжать, ты чувствуешь его цвет и запах хоть на другом краю земли. Ну а уж если попал сюда, то готовься к тому, что чувство радостного узнавания будет накрывать на каждом шагу.
Марина: Ренарт, расскажите моим читателям, как вы пришли к поэзии. Почему захотелось писать? От чего Вы получаете удовольствие больше, от процесса или результата?
Ренарт: Не могу сказать, чтобы я к поэзии как-то шёл. Вплоть до 15 лет я совершенно явно прозу любил больше. В поэтические сборники, которых дома было немало, заглядывал урывками – что нравилось больше, что-то меньше. Пока не наткнулся на томик Гумилёва, который проглотил чуть ли не залпом. Но и тогда мне и в голову не приходило начать писать самому.
А потом всё случилось совершенно внезапно. Однажды утром, умываясь, я вдруг осознал, что в голове вертится четверостишие. И буквально тут же появилось второе. Не выходя из ванной, я совершенно озадаченный попробовал добавить к нему третье, потом четвёртое и в считанные минуты стал обладателем первого в жизни самостоятельно написанного стихотворения.
Этот факт меня так поразил, что я решил написать ещё одно. А на третьем я уже твердо знал, что хочу стать поэтом, и начал писать обо всём подряд. Завёл тетрадку, поставил на ней в углу номер 1 и заносил туда, наверное, по два-три стихотворения в неделю. К концу пятого курса у меня таких тетрадок было уже штук 20. Точное число назвать не смогу, потому что на втором десятке все стало приходить в какой-то хаос, появились тонны каких-то отдельных бумажек, вырванных страниц, блокнотов со стихами.
Сейчас ничего этого нет – пишу сразу в «Ворде».
По поводу процесса и результата вопрос сложный, и я даже не знаю толком как ответить. Это как читателя хорошего детектива спросить, от чего он получает большее удовольствие – от того, как написана книга, или от того, чем закончилась история? От всего сразу и от всего по отдельности.
Марина: Как рождается Ваше стихотворение? Что появляется в самом начале? Как пишется продолжение? Долго ли Вы ещё дорабатываете его потом? Бывало ли, что Вы так редактировали свои тексты, что конечный вариант был совершенно не похож на начальный?
Ренарт: Варианты могут быть разные. Вот «Летняя баллада», например, писалась совершенно последовательно – от первой строчки до последней, причём я сам до самого конца понятия не имел о том, что это застихотворение и куда оно ведёт. Но такое на самом деле бывает редко, и я ещё сам не до конца решил, как я к таким стихам отношусь. С одной стороны, это очень круто. А с другой – ощущение, что я сам как-то и не особо в нём участие принимал.
Но чаще стихи пишутся по-другому. Иногда появляется сразу концовка, после нужно придумывать, как к ней прийти. Иногда бывает набор образов, который требует – напиши вокруг меня стихотворение, да так, чтобы все было органично. Довольно частый сценарий – возникает первая строчка, которая тянет за собой целое четверостишие, а потом ты начинаешь продумывать собственно остальную композицию.
Бывает и так, что после первой пары строф я застреваю и решительно не понимаю, зачем они написаны и куда всё это должно вырулить. То есть идеи-то возникают, и ты даже пытаешься их как-то реализовать, но подсознательно понимаешь, что стихи пошли по какой-то не своей колее. И можно довести до конца, но текст получится вымученным. Пусть даже снаружи этого даже и не будет ощущаться. В таких ситуациях самое правильное – дать строкам отлежаться. Причём отлеживаться они могут долго, бывало, что и несколько лет.
При этом редактирую я стихи нечасто. Имею в виду те стихи, которые уже написаны и занесены в компьютер. Могу поправить отдельные слова, могу дописать одно или несколько четверостиший. Но кардинальным перекраиванием не увлекаюсь, это можно делать только когда стихотворение еще в процессе рождения. Там – да, бывает, что изначальный замысел довольно сильно меняется, по мере того, как ты понимаешь, о чём собственно пишешь.
Марина: Вы часто бываете недовольны своими стихами, если «да», то что Вы делаете с текстом, просто забываете про него или работаете с ним дальше.
Ренарт: Как вы понимаете, из предыдущего ответа, уже написанными стихами я недоволен не бываю, иначе бы их вообще не было. Все, что меня царапает и не устраивает, ликвидируется и переделывается «по ходу пьесы». Либо, если ощущение неправильности не исчезает, стихотворение вообще останавливается на полдороге и откладывается в долгий ящик ожидать своего часа.
Марина: Скажите, Ренарт, Некрасов утверждал, что начало всему - гражданская позиция, всё остальное – вторично. Расскажите о Ваших мыслях на этот счёт. Что такое патриотизм? Это всегда выигрышная тема, а на деле просто красивые слова или это вполне волнующее чувство? Любить свою страну – это что значит?
Ренарт: Ого, это вопрос из разряда тех, что всегда делят аудиторию на два противоборствующих лагеря. Как бы ты ни ответил, в тебя полетят помидоры если не из одной половины зала, то из второй уж точно.
Я вообще не верю в космополитизм. Такого явления просто не существует. Словом "космополитизм" называют такую очень распространенную и глубоко укорененную вещь, как европоцентризм. Проще говоря, желание жить, мыслить и чувствовать в системе координат европейской цивилизации, куда, разумеется, входят и Америка, например, и Австралия, и Новая Зеландия, и Канада. Это ведь не географический термин, а культурно-исторический.
Космополит, говоря, что ему одинаково хорошо в любой точке планеты, лукавит. Я уверен, что он отнюдь не захочет жить в каком-нибудь африканском племени не в качестве туриста или исследователя, а в качестве полноценного африканца, разделяя все нюансы их образа жизни. Нет, он всего лишь имеет в виду способность жить, где угодно, если ему обеспечат привычные условия. То есть, по сути, он остаётся в границах своего мирка.
Я не знаю, может быть, тут есть какие-то исключения. Может быть, действительно где-то существуют редчайшие люди, свободные от системы координат той или иной цивилизации. Если они есть, то всё сказанное к ним не относится. Но для всего остального человечества вопрос патриотизма очень прост. Если ты не любишь свою страну, значит ты любишь другую. И это не хорошо и не плохо. Что тут поделать, коли сердце у человека уже занято каким-то другим любимым образом. Просто это надо понимать.
Я свою люблю.
Марина: Расскажите, пожалуйста, про рождение «Билета до Лхасы».
Ренарт: Я когда-то думал, что мне в этом мире вообще ничего не нужно. Что я буду писать стихи, ходить из города в город пешком, грызть корку хлеба и умру, не дожив до тридцати. Потом пришло понимание, что есть вещи, которыми нужно заниматься, даже если они тебе не особо и нужны. Что ты не один на свете живёшь, что есть такое слово «надо» и ещё есть слово «должен». Но это подспудное ощущение, что в один прекрасный момент все дела будут сделаны, а все долги оплачены, так и осталось где-то глубоко внутри.
И это опасно, потому что в те моменты, когда накрывает череда бед и всё начинает валиться из рук, в мозгу вспыхивает мысль – а может быть, пора? Раздать всем сестрам по серьгам и уйти в Тибет. Тогда приходится брать себя в руки и говорить – нет, ты ещё не всё, что мог, сделал.
«Просроченный лет на шесть» в концовке стихотворения – это воспоминания как раз о таком кризисе.
Марина: Расскажите о Вашем переводе «Эльдорадо». Это эквиритмический перевод? Почему Вы за это взялись? Вас так вдохновил оригинал? Или Вы проверяли себя, справитесь ли с такой задачей? Вы владеете языком или работали по подстрочнику?
Ренарт: Да, это эквиритмический перевод, и я горжусь тем, что мне удалось его выдержать без явных натяжек и компромиссов. Строка там короткая, а при этом задачу сильно осложняли десятки уже существующих переводов этого стихотворения, с которыми не хотелось пересекаться. Иногда приходилось с сожалением отказываться от слишком явных ходов, которые уже были использованы до меня.
Английского языка я на таком уровне, чтобы свободно переводить, не знаю, поэтому работал с подстрочником. И, кстати, это сильно усложнило мне концовку. Там у Эдгара По есть лишний слог, и поначалу я прилежно скопировал его в своем переводе, несмотря на явное нарушение ритмического рисунка. Но потом решил прояснить ситуацию и обнаружил, что никакого лишнего слога в реальности там нет. То есть на письме он фиксируется, но в реальности проглатывается.
Пришлось переписывать финал стихотворения. Впрочем, в результате получилось намного лучше, чем было.
А по поводу того, зачем я вообще взялся за «Эльдорадо»… Честно говоря, мне хотелось замахнуться на «Ворона». Это стихотворение меня всегда пробирает до костей, я даже его на английском выучил. Переводов его на русский язык существует несметное количество, мой самый любимый – Зенкевича. И чем больше я читал разных его вариантов на русском языке, тем больше мне хотелось дерзнуть и перевести самому. Но сначала следовало потренироваться. Так что «Эльдорадо» было выбрано именно в качестве испытательного полигона.
И сразу отвечу на следующий вопрос – нет, «Ворона» я пока так и не перевёл. Но однажды всё-таки возьмусь!
Марина: И, конечно, хочу спросить Вас о Вашем Карлсоне. Дело в том, что в последнее время в сетевой поэзии возникла мода на этот приём. Мне доводилось читать монологи/письма Кая, Герды, Маленького Принца, Розы, Лиса, даже Мери Поппинс. Я не хочу сказать, что это плохо. Напротив, очень интересный взгляд получается.
Что Вас вдохновило на написание Вашего стихотворения «Здравствуй, Карлсон…»? Хотелось опробовать этот приём самому?
Ренарт: Эпистолярные стихи, особенно обращённые к литературным героям, это хороший жанр, они почти всегда срабатывают на ура. Что говорить, я сам с удовольствием читаю тексты, написанные в таком духе. Но писать так до «Карлсона» не решался из соображений не столько литературного, сколько психологического свойства.
Для меня лично это слишком соблазнительный приём – он сразу задаёт тебе интонацию и существенную часть композиции. Во многом, он даже диктует ритмику и некоторые поэтические ходы. Может быть, это прозвучит глупо или не очень понятно, но я очень долго сознательно запрещал себе прибегать к нему из боязни, что мне слишком понравится. Хотя, казалось бы, в чём проблема – главное ведь, чтобы стихи получились настоящими, а уж как ты их напишешь, дело десятое. Но что-то всё равно удерживало.
А «Карлсон» появился практически случайно. Однажды я сообразил, что у него нет имени, все его зовут просто по фамилии, сами того не сознавая. Представил, как бы могла звучать первая строчка письма к нему. Автоматически задумался над тем, какая должна быть подпись. И внезапно понял, что это готовые рамки будущего стихотворения – начало и концовка.
И тогда я просто выдохнул и позволил себе написать.
Марина: Виктория Токарева утверждает, что душа художника должна быть свободной от любого негатива: раздражения, неприязни, ненависти. Вы разделяете это убеждение? Разве негатив не продуктивен сам по себе? Вам доводилось писать стихи от злости? Получалось?
Ренарт: Нет, мне такая позиция не близка, непонятна и, честно говоря, представляется довольно маргинальной. Потому что куда более распространено другое убеждение: поэзия – это отчаянная попытка творца исправить несовершенство мира, которое его всечасно мучит. И понятно, что чувства, которые при этом творец испытывает, далеки от позитивных.
Если говорить лично обо мне, то я не сторонник обеих полярных точек зрения на этот счёт. Говорить, что художник должен быть вечно несчастным и голодным, я тоже не буду. По мне – так в основе стихов может лежать любая эмоция. Искренняя радость так же продуктивна, как искренняя злость, раздражение или ненависть.
Писал ли я стихи от злости? Вот такой ситуации, чтобы я был зол и на этом фоне решал «дай-ка что-нибудь напишу», не припомню. Зато по ходу дела пылать самыми разными чувствами, в том числе и остро негативными, приходилось.
Думаю, тут надо пояснить, как именно я пишу стихи. Чаще всего в стихотворении есть какой-то сюжет и соответственно лирический герой. И я не могу, да и не хочу писать, наблюдая за ним просто со стороны. Мне сначала нужно влезть в его шкуру, ощутить всей кожей всё, что он переживает, перенять даже его жесты и мимику. Только тогда я понимаю, что и как нужно писать про него. А боли, злости и горечи у многих из моих героев хватает, так что всё это приходится испытывать вместе с ними.
Марина: Что Вам интересно кроме поэзии?
Ренарт: Про историю вы уже знаете. Про любовь к путешествиям можете догадаться по предыдущим ответам и по самим стихам. А ещё я люблю разные интеллектуальные игры – викторины, квизы и, в первую очередь, «Что? Где? Когда?». В смысле не телевизионное со знатоками за круглым столом с волчком, а так называемое спортивное ЧГК.
Меня в него буквально затащили, поскольку я упорно сопротивлялся, сам не зная почему. Оказалось, что это мне дико нравится. В Магнитогорске три года подряд выигрывал индивидуальное первенство города по ЧГК. А в Питере чуть ли не первым делом разузнал, где собираются местные знатоки и записался в одну из команд. Не удержусь от возможности похвастаться – играли мы так, что в какой-то момент добирались до 14-й строчки в общем рейтинге всех команд мира. А их там порядка пятидесяти тысяч.
Кстати, настольные игры тоже люблю с детства. Сейчас их появилось такое огромное количество, и они так усложнились, что для ценителя это просто рай.
Марина: Процитируйте самый точный, на Ваш взгляд, афоризм.
Ренарт: Афоризмы на ум как-то не приходят, поэтому процитирую любимую максиму, которой стараюсь руководствоваться: «Делай, что должен, и будь, что будет».
Марина: Ну и последний вопрос. Чего Вам не хватает?
Ренарт: Единственное, чего мне не хватает сейчас, это времени. С каждым днём я это ощущаю всё острее.
Марина: Ренарт, я благодарю Вас за откровенность и уделённое мне время.
Ренарт: Спасибо и Вам.
02.10.2020
Летняя баллада
И приходит к отцу Июнь, синеглазый мальчик,
Как положено, весь искрящийся и упёртый,
Говорит, что на свете есть паруса и мачты,
Перекрестки, меридианы, аэропорты.
Можно топать по тёплым шпалам до горизонта,
Можно взять за рога потёртый, но крепкий велик.
Это значит, что ни единого нет резона
Оставаться с тобой по эту сторону двери.
И плевать, что подстерегают в потемках ямы,
Что гремят арсеналом молний чужие выси…
Если что-то случится, то эта гибель – моя, мол.
Понимаешь, она от меня одного зависит!
А потом приходит Июль, двухметровый воин,
Через щёку шрам, в золотой бороде косички.
Говорит, что на свете есть подлецы и воры,
И удары исподтишка, и ночные стычки.
И поэтому ты, отец, на меня не сетуй,
Слишком горек теперь мне вкус молока и мёда.
Прямо в эту секунду, пока мы ведём беседу,
По жилому кварталу кроют из миномета,
Бронированная махина въезжает в надолб,
Георгины распускаются на могилах…
А случится чего со мной, горевать не надо б,
Только этого я тебе запретить не в силах.
И последним приходит Август, сухой, прожжённый,
Преждевременно поседевший, глотнувший лиха,
Говорит, что в саду за домом созрел крыжовник,
Тёплой мякотью наливается облепиха.
Можно сесть на скамейку и ничего не делать,
Можно просто прикрыть глаза, улыбаться немо.
Только братьев уже десятую нет неделю,
А кому их спасать от гибели, как не мне, мол?
Не подумай, что я о ком-то из них скучаю.
Мы, конечно, родные, но дело не в этом вовсе…
Он хватает куртку, позвякивает ключами
И уходит, не оглянувшись, из дома в осень.
Рен Арт
Дорогие читатели, я предлагаю задать свой вопрос моему гостю. Автор лучшего вопроса будет премирован 50-ью серебряными монетами.
Следующее интервью будет опубликовано 24 октября.