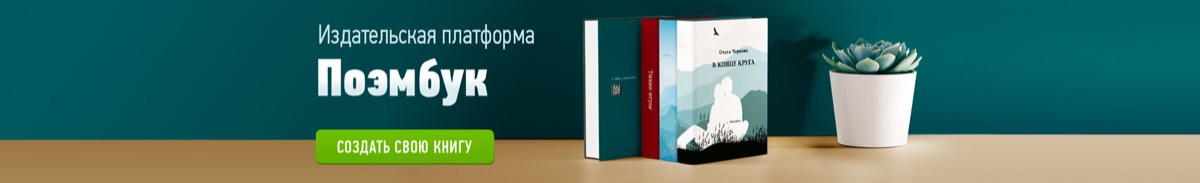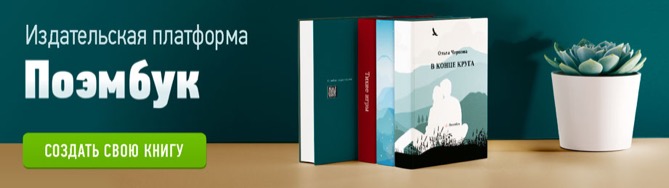Хафизова Наталия
о философии и поэзии *
14 янв 2018
* Выкладываю в том виде, в котором это было написано в 2011 году. Сейчас бы написала про то же, но другими словами. Однако пусть здесь побудет и этот вариант.* Итак.
Философская рефлексия есть результат постоянного самонаблюдения в изменяющихся внутреннем и внешнем мирах. И потому она раз за разом возвращается к казалось бы решённым вопросам, становясь похожей на уходящий в противоположные концы ряд отражений двух зеркал. И это делает переосмысление уже сказанного и написанного на фоне расширяющегося контекста бесконечным, как и вечным – ощущение, что философский текст есть лишь рациональный намёк (рациональный в силу логичности), скорее – вопрос, чем ответ. И поэтому пытающаяся изжить себя в философском слове недовысказанность неизбывна.
Поэтическая рефлексия – это не столько вопрос, сколько ответ поэта на переживаемое им здесь-и-сейчас, но с задействованием всего его жизненного опыта. В этом смысле, не бывает устаревших стихов, в отличие от того, что философские взгляды даже самим философом могут оцениваться как смысловое заблуждение. Поэзия даёт ответ по большей части иррациональный, так как стихи пишутся не умом, а всей телесно-душевной целостностью. Поэтическая рефлексия осуществляется не столько через конкретное слово (понятие), сколько через метафору (именно она – единица стиха).
Философ избыточен в вопросах и ощущает острую нехватку ответов, у Поэта всё с точностью до наоборот. Но избыточность – это то необходимое, что раздвигает границы индивидуального существования и наполняет последнее смыслом, если, конечно, человек, как минимум, причастен, как максимум, участен в этой избыточности. Философ инициирует поиск ответов, Поэт – формулирование вопросов к миру и себе.
Философия имеет дело с Логосом, поэзия с Мелосом (просодией). В Мелосе важен внутренний ритм, мелодия звукоряда, из которых смысл словно истекает в мир; смысл производится не столько правильным построением предложений (хотя, я за знаки препинания!), сколько музыкой метафор, из междусловья. Начало стиха – это не начало строчки, обозначающейся с большой буквы, и даже не начало предложения: у стиха вообще нет начала! Стих – это метафора и ритм, которые есть сердцевина и скрепы одновременно. В стихе лишь имя личное имеет право на большую букву, ибо оно само по себе готовый – уже присутствующий, а не рождающийся в биениях ли сердца, сбивающемся ли дыхании – смысл.
И философия, и поэзия – это и форма создания авторских миров, и дверь в существующий мир (а не сам этот мир); они творят не инобытие-само-по-себе, но – авторскую модель существующей действительности. Через них смысл не столько выражается (хотя, как без этого-то), сколько приращивается, но по-разному: поэзия достигает этого игрой слов, философия обоснованностью и логичностью рассуждений.
...И поэзия, и философия – элитарны: не в смысле, что их произведения рождаются и существуют для элиты, но потому, что восприимчива к ним лишь элита духа. Восприимчивость же эта – результат труда души, настроенной на возвышенное и прекрасное и предъявляющей себя в своей неугомонности.
Для многих поэзия сложна, недоступна, нема, так как вхождение в её мир предполагает предельную доверительность слову, богатство собственной души (должно же быть что-то, резонирующее со смыслами поэтических текстов) и способность участвовать в витиеватой игре метафор с их глубиной и потустороньем.
Однако и философия оказывается ничем для тех, кто в её всеобщих категориях, на языке которых она говорит, не смеет и не умеет расслышать индивидуальные смыслы, тона и полутона в силу нищеты той же души и бегства от реальной индивидуальности. Поэзия – это образная, а философия – рациональная формы выражения предельного, а подчас, и запредельного авторского вчувствования и переживания мира, себя.
Услышала как-то мысль Льва Шестова, суть которой такова: "меня не интересует философия, меня интересуют философы как живые свидетели тех идей и переживаний, которые отразились в их философствовании". В этой мысли есть всё необходимое для понимания сути философии, так как философия не наука о всеобщих закономерностях (и т.п.), она есть особого рода выговаривание и собирание себя.
Философствование – форма глубоко личностного творчества вопрошающего о самом себе и ностальгирующего по самому себе человека на языке всеобщих категорий. Это и делает её самой противоречивой формой духовности: как можно через всеобщее выразить индивидуальное, если индивидуальное всегда шире всеобщего?! Искусство, музыка, литература, в этом смысле, – более органичны: они всегда художественно оформляют индивидуальный контекст жизни автора.
Не потому ли художественные произведения – это отлитая в индивидуальные формы гармония (у гениев – всеобщая гармония), тогда как в философском тексте (а не в научном) индивидуальная гармония рождается, пульсирует сквозь стройный, всеобще-логический, ряд умозаключений.
Философский текст свидетельствует о возможности выпадения из общего контекста (или даже из своего собственного, но прошлого-уже) и конструирования нового и потому всегда отныне индивидуального. Художники, писатели, композиторы в своём творчестве не меняют индивидуального фона, а выражают его наиболее ярко и убедительно, тогда как философы дерзновенны именно в отношении самого контекста.
Бытие Художника всегда трагично в силу тончайшей чувствительности к несоответствию между индивидуальным и всеобщим, и того, что он, практически всегда, соскальзывает в это самое – индивидуальное.
Бытие Философа трагично потому, что он всегда стоит в проёме этого несоответствия, но только из него и возможно трезвое самопонимание и изменение. А вы пробовали стоять в проёме, на сквозняке? или жить?..
Отзывы
турнаев валерий14.01.2018
Просветительство всегда украшает, просветительство в такой узкоспециальной области ценно особенно. Молодец, Наталия. Очень важно ещё и то, что Вы сама замечательный поэт, своя на Поэмбуке, следовательно, доверия и интереса профессионального будет больше. Кто ещё в аналогичных поэтических сетях может похвастать подобными гуманитарными конвоями? Философской культуры пишущим стихи, конечно же, не хватает. Такие популярные тексты помогут им посмотреть на себя со стороны и, возможно, - продвинуться по духовной (поэтической) стезе. Но не надо ждать, что восторг будет массовым. Впрочем, Вы и сама это понимаете.
P. S. Но от меня обязательно будет чупа-чупс, как только мы общими усилиями освободимся от литературного мусора вроде "взахлёб".
Исмаил Иллайя-Лала04.02.2018
Философия-это и жизнь.
Почитайте стихи автора
Наиболее популярные стихи на поэмбуке