Dr.Aeditumus
Реплики (Статья 32 - 50)
17 фев в 16:43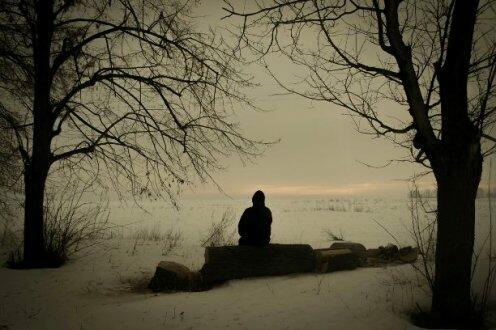
«для невозмущаемого собеседования с Богом нужно погрузиться в безмолвие и хотя несколько возвести свой ум от непостоянного» (Свт. Григорий Богослов.)
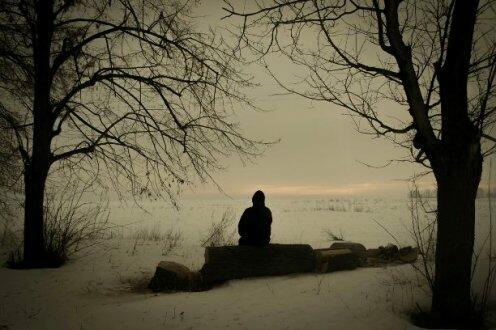
32. Бибихин говорит: «Другого способа понять событие нет: участвовать в событии. Что значит участвовать? Быть событием». То есть, моё подлинное участие в бытии ограничивается мной самим. Я участвую в себе, и я есть подлинное событие. Но кто может утверждать, что он подлинно и истинно, абсолютно понимает самого себя? И к чему бы тогда эти призывы: Познай себя. И обещания в этом самопознании познания абсолютно всего, Бога? Итак, быть событием, означает, познавать (понимание мыслится тождественным познанию, или нет?) себя? Но как? И здесь пути всех, устремившихся к абсолютному Знанию, расходятся. Здесь начало Веры. Нас, христиан, Бог призвал к пределу познания в совершенном, предельном для нашего естества соединении с Подлинным Бытием, сиречь с Ним Самим. Это соединение и будет означать отождествление познающего и познаваемого, субъекта и объекта познания. Однако мы исповедуем ипостасное бытие и существование, верим в личность человека и личность Бога. Но ведь личность не сообщаема (Дунс Скот). Каков же образ соединения Личности Творца с ипостасями твари? Единство воли и действия. Посредством чего? Посредством исполнения Заповеди. Непостижимый и неизъяснимый Бог-Любовь являет нам свою сущность как Заповедь (конечно, Он в первую очередь являет Себя как Личность в ипостаси Сына, Который и даёт Заповедь как проявление Божественной сущности – ведь в Любви сущность и действие суть одно). Сущность непознаваема, но проявление нетварной сущности в тварном существовании подлежит познанию посредством полнейшей гармонизации себя, познающего с Законом этого (Своего! Ибо в чём разница законов физических и Закона существования? Первые объективны, а второй даётся мне лично; те являются структурой материального мiра, а этот составляет структуры личности, скелет, так сказать, тела вечного) существования, Заповедью любви. Жизнь по Заповеди, или делание Заповеди суть единственный путь энергийного соединения с Божеством. Итак, подлинное понимание события лежит (пролегает, совершается) через обожение. Подлинное участие в событии – святость. Здесь присутствует некая тавтология: участие в событии. Событие, со-бытие, совместное бытие – это и есть участие в бытии. Если конечное и ограниченное не есть подлинное бытие, то свою подлинность и полноту оно обретает в со-бытии с абсолютным. Когда это случается? Где мера того, что вот, здесь ещё – конечное и тленное, а вот от сюда – тождественное абсолютному? Только во мне. Здесь нет количественных показателей (если речь идёт о самом делании) и критериев качественной перемены, перехода в инобытие (если мы ищем их для внешнего наблюдателя, для научного, так сказать, взгляда; для моей же собственной души – это не только совесть, но и ещё нечто, ощутимо переживаемое, или хотя бы однажды пережитое – опыт благодати, и как плод сего – надежда, упование, достигающее несомненности, а это уже не предмет физики, это жизнь веры). Есть только один контролируемый ориентир: состояние моей воли, точнее её вектор. Ибо у воли всего два «фиксированных положения», две возможные направленности, символические именования* которым не счесть: Свет и тьма, Полнота и недостаточность, Истина и ложь, Бог и диавол, Благо и зло, и проч. Почему так много? Потому что Единое по сущности имеет многообразное действие во множественном существовании Им сотворенных и от Него отделившихся существ. Итак, мера адекватности моего понимания себя как со-бытия есть степень моей святости. Неправильно говорить: степень соответствия моего произволения Божественной воле. Ибо, как уже было сказано, оно либо соответствует, либо нет. Есть лишь мера ревности, мера усердия, величина подвига, размер трудов и усилий, которыми я изъявляю своё благое произволение быть угодным своему Создателю. И это есть мера моего соучастия в Божественном бытии? Конечно, нет, ибо всем этим я лишь напрягаюсь понудить Истинное Благо отверзть врата Своего милосердия, сообщаю Ему о своей нужде и желании быть общником той Полноты Бытия, которая может быть обретена мною лишь в получении Его благодати, ибо благодать – это и есть способ со-бытия человеческой ипостаси Единому в Трех ипостасях Богу**. 27.03.12, около 17ч.
*) Азъ, невежа, написал было: «символических именований», но программа разгневалась, потребовала именительного падежа. Повинуюсь, хотя на мой слух это звучит менее ясно, чтобы не сказать менее грамотно. Или всё дело в привычке? И как считает всё тот же Бибихин, через пятьдесят лет, как бы я не пыжился, все мои текстуальные излияния станут жутким архаизмом? Трудно найти причину для надежды на противоположное. Тогда в чём смысл всех этих письменных стараний (даже страданий)? Утешаю себя мыслью, что Господь вменит мне сие в нечто подобное тени тех упражнений, коими спасали душу отцы, занимая свою страстную экзистенцию плетением верёвок и всяким иным рукоделием. Хотя, конечно, и от опыта, и от рассуждения приходится признать большую степень лукавства в подобных мыслях, ибо сказано: «Кто не собирает, тот расточает» (см. Мф.12:30), чему и мы повинны в своём многоглаголании.
**) Это не подлежит обсуждению, ибо здесь не о чем дискутировать: кто вкусил, тому ведомо, тот познал ум Христов, а кто упражняется в умозрительных построениях, оттачивая логику и диалектику дискурсивной мысли, тому Бог в помощь, о тех надлежит молиться, не даст ли Всеблагой Господь и им вкусить Себя по Своей милости, оросив сухую землю их плотского разума живой водой благодати Святаго Духа, да принесут плод покаяния во спасение своей души и жизнь вечную. (ib. 19h)
33. Почему и разум, и чувство стремятся к новому? В чём состоит интеллектуальное удовольствие от познания? В узнавании. Точнее в опознавании, в отождествлении. Нашёл нечто непонятное, рассмотрел, разобрал, поразмыслил и …опознал: нечто старое, известное скрывалось в экзотическом облачении новизны. А если бы это было абсолютно новое, чисто новое, качественно, стерильно, эссенциально и стопроцентно новое? Типа лемовского Соляриса, мыслящего океана. Или ещё «новее»? Или услышали мы новый музыкальный строй, неслыханную доселе гармонию услышали, китайское пение, например? Тунгусские горловые распевы. Византийский и знаменный церковный распев услышало немецкое ухо, вскормленное классической музыкальной гармонией средиземноморья. Ужас. Дисгармония. Распиливание души ржавым рашпилем. Но вот кто-то искусный умело вплетает этнический пассаж в свою мелодию, построенную по законам вполне традиционной гармонии. О, чудо! Открытие, находка, озарение. Всеобщий восторг. Мы узнали нечто новое. Что? Китайский лад. Да ничего подобного. Мы распознали собственного прадедушку, нарядившегося в китайский халат. Мы опознали своё старое, несмотря на ухищрения композитора укрыть его непривычными для нашего восприятия эстетическими формами. Но ведь разум как мыслящая природа один у всех, у всякого человека, эскимоса, китайца, голландца. Почему же мы не воспринимаем вовсе или воспринимаем как уродство то, что за семью морями почитается пределом прекрасного? А откуда, собственно стало известным, что мой разум тождествен разуму тибетского ламы за вычетом специфических условий формирования и развития? Логос тварного разума может быть и общий для всех сынов Адама, но ипостазирование – это приобретение специфической структуры, родовой и индивидуальной, ещё до всяких условий конкретной экзистенции. Сначала Бог сотворил мiр, затем разум. Потом позволил разуму определить границы тварным феноменам по своему усмотрению, нарекая им имена. Возникли структурные соответствия физических и психических феноменов. А следом за этим человек согрешил, зеркало разума стало кривым, мутным и потрескавшимся, а цельность мiроздания была разрушена тлением и стала неудержимо изменять версии своего распада. Центробежные силы греха разделили разумную плазму, разливая её как жидкий металл в разнообразие и изменчивость феноменальных форм. Структура металлической отливки формируется в зависимости от состава расплава и от условий его кристаллизации. И если считать, что сумма элементарных логических модулей разума постоянна, то их комбинации, а также количество и качество образуемых ими модальностей логических микро и макро структур неисчислимо. Поэтому родовая ипостась китайского разума имеет очень мало общего с родовой ипостасью разума европейского. И это различие продолжает развиваться на всех уровнях внутри и межродовых делений вплоть до персонального существа, личностной разумной ипостаси.
Так что же, Бог уже вложил в нас всё возможное знание о мiре? Нам остаётся только сложить пазлы, найти соответствие вещи и её логической структуры, хранимой разумом от начала? И да, и нет. До определенных границ – да. И нет, ибо творение – тайна. Вещь останется навсегда непостижимой для разума. Такой же непостижимой, каким он является сам для себя. Мы знаем, что есть вещи, и есть разум, и только. Некоторые вещи разум опознаёт, как известные, находит соответствие вещи её логическому образцу в самом себе. Но он обретает в себе нечто, чему нет соответствия в мiре вещей, и это не порождение комбинаторных способностей его воображения, а нечто совершенно иное мiру. Следовательно, если в разуме нет образца, то и вещь не может быть им идентифицирована, ибо он её просто не видит. Нам приходится как бы наново проектировать логическую структуру культурного феномена параллельно развивающихся родовых групп разума: способ мышления китайца нам доступен лишь в аналогах, в моделях, родственных нашей традиции мысли. Но это не китайское мышление само по себе. И это мы говорим о том, что имеет общий с нами корень. Значит, то, что не имеет с нами, с нашим мышлением родства, останется для нас навсегда непостижимым, более того, мы даже не будем подозревать о его существовании. Ум не видит предмета, пока не находит в себе его образца. Если образца нет, предмет никогда не может быть не просто опознан, но и обнаружен в числе сущих. Вещь как таковая невидима.
34. Приоритет ценностей. В этом всё дело. Всё этим определяется. То, что для тебя химера, для меня истина в последней инстанции. Промелькнула её тень, погнался, помчался за тем, что есть сама подлинность, без чего ничто не имеет смысла, и …попал под троллейбус. Почему? Потому что произошёл сбой в системе идентификации подлинных ценностей. ? Ну, то есть тень Истины оказалась химерой. Разум в иллюзии бытия породил иллюзию истины, мнимую ценность. И в состоянии аффекта ринулся в погоню за призраком, и потерял адекватное восприятие даже той иллюзии бытия, в которой тщился осуществить свою единственно возможную экзистенцию. И утратил обладание даже тем, в чём мнил себя несомненным обладателем, ибо счёл, по обыкновению, возможным отождествить онтологически несовместимые понятия «быть» и «иметь». (Среда, 17.10.12. около 3ч утра)
P.S. Обыкновенное чудо: вчера, точнее сегодня, ибо сейчас 14ч 30м, записал сии мысли (по ничтожному поводу, как комментарий к сюжету тяжеловесно, прямолинейно-дидактического фильма «Мамы»), а сейчас открываю Дневники Шмемана и читаю (запись от 13 декабря 1974): «…всякий спор есть всегда спор об иерархии ценностей, о том сокровище, что определяет местонахождение сердца, об «едином на потребу». Мне вообще не следовало бы ничего писать, ибо все мои неудобовразумительно изложенные «прозрения» обретаются уже написанными прекрасным, ясным, прозрачным языком и в бесконечном количестве вариантов у огромного множества замечательных, умных, образованных, мудрых, одарённых литературным талантом авторов (таких, как Шмеман и лучше). И, кроме того, есть ещё одна причина не писать (я не раз на этот феномен натыкался, и даже, кажется, где-то записывал сие наблюдение, свидетельствующее о малой пользе интеллектуальных изысканий по причине их затруднённого усвоения душой в собственный опыт, в своё, так сказать, природное свойство, в качественное обладание, но лучше опять процитирую Шмемана): «Удивительно: когда читаешь «самого себя» напечатанным, «опубликованным» – точно читаешь написанное кем-то другим. Всегда узнаёшь что-то новое». А вот когда слышишь нечто хорошо тебе известное по практической жизни, по твоей этической экзистенции, то этого узнавания нового не происходит. Т.е. то, что ты написал, не было твоим, но ты взял его из хранилища своей памяти, куда положил его прежде как воспринятое извне, и вероятнее всего уже успел забыть, где, как и у кого ты это приобрёл. На самом деле неважно у кого, важно только одно: позаимствовал или прожил, взял чужое или осмыслил своё? Почему? Потому что чужую теоретическую (этическую) мысль трудно сделать своим собственным действующим нравственным императивом. Требуется долгий труд и большое душевное напряжение. А память, она как чулан, в ней может храниться множество всякого хлама и полезных вещей, но если ими не пользоваться, то их как бы и вовсе нет, их наличие не имеет смысла: всё твоё интеллектуальное познание так и будет покрываться пылью без малейшего движения в сумраке чердака твоей памяти. А действующий императив, он как инструмент, который у тебя в руках, он определяет качество твоих деяний и твоего поведения, результатов и плодов твоего действования. Хотя, конечно, Господь говорит, что с того, кто знал и не делал, спросу больше и наказание для него строже. Итак, во многом знании многие печали, ибо знание обязывает и делает ответственным, понуждает к деятельности и трудам против порочной воли и вопреки душевной лени. Да и совесть обличает знающего и бездействующего как виновного. Не всуе сказано: блаженное неведение.
35. Любая формула универсальна. Суждение о сущем (внешнем) – суждение о себе – суждение о сверхсущем (внутреннем). Или: естество (сущность) не имеет рангов; разумной ипостаси (я) не следует ограничивать себя заимствованными извне (от вне, со вне, из среды) понятиями и представлениями о собственной природе (сущность не постигаема); непостигаемое сверхсущее может быть ипостасно усвоено. Итак, объективное суждение (о феномене) ложно; субъективное суждение (о состоянии собственного существа) ложно; суждение (гипотеза) о качестве своих отношений со сверхсущим ложно. Познавательные интенции, обращённые во вне и на себя бесперспективны (подобны саду ветвящихся тропинок). Подлинный путь познания Истины – отождествление со сверхсущим, объемлющим всё сущее. Точка «Ноль» (Начало) содержит в себе все возможные окончания и предел всех беспредельных возможностей. «Я» не детерминировано предшествующим развитием настоящей ситуации, но испытывает влечение к своему предназначению. (25.08.12, около полуночи, в полуобморочном состоянии)
36. Мрачное нелюбопытство (Шарль Бодлер). Беспощадная любезность (Дм. Мережковский). Бессмысленная самотождественность (диакон Андрей Кураев).
37. Если следовать классификации Чезаре Ломброзо, то меня следует отнести к маттоидам-графоманам (Гениальность и помешательство, гл. IX). Цитирую: «У большинства маттоидов умственное расстройство не сопровождается аффектами, …они более способны сдерживаться в своих поступках. Ненормальность их бывает врождённая и неизлечимая, они обладают только болезненными свойствами гениальных людей, …не имея, однако ни критического взгляда, ни творческих способностей». «Целые тома наполняют они бессмысленной, тяжёлой болтовнёй; чтобы скрыть бедность мысли, невыработанность слога, отсутствие таланта, эти честолюбцы прибегают к вопросительным и восклицательным знакам, подчёркиваниям слов и придумыванию новых выражений, как это делают и мономаньяки». «Все маттоиды употребляют чрезвычайно сложные, курьёзные заглавия для своих сочинений». «Отличительная особенность – высказывать свои убеждения больше на бумаге, чем на словах или на деле». «Ненормальность писателей-маттоидов не всегда легко было бы заметить, если бы, при всей кажущейся серьёзности и увлечении данной идеей, – в чём они обнаруживают сходство с мономаньяками и гениальными людьми, – к сочинениям их не примешивалось зачастую множество нелепых выводов, постоянных противоречий, многословия, бессмысленной мелочности и главным образом себялюбия и тщеславия, составляющих преобладающее свойство гениальных людей, лишившихся рассудка». Их «взгляды зачастую заимствованы у более сильных мыслителей, но всегда с преувеличениями и в своеобразной переделке». «Ненормальность сказывается не столько в преувеличениях относительно той или другой тенденции, а, скорее, в непоследовательности, в постоянных противоречиях основному плану сочинения и социальному положению автора». «Другую особенность их составляет орфография и каллиграфия, со множеством подчёркнутых или написанных печатными буквами слов. Также часто употребляются скоби, даже двойные, и множество примечаний, выносок, ссылок и пр. (тут священник Павел Флоренский рискует оказаться со мной на соседних койках). Иногда у маттоидов является прихоть – не распространять в публике написанных и напечатанных ими сочинений, хотя они всё-таки думают, что публика их должна знать». И вот ещё один характерный факт: ровно сорок процентов маттоидов упражняется в теологии, плюс ещё процентов 15-18 – в философии, плюс лингвистика, грамматика, беллетристика, поэзия, педагогика, политика и др. – ещё процентов сорок, итого, практически сто процентное попадание в славную когорту маттоидов-графоманов. Ну и? Стоит призадуматься или плюнуть и играть в слова и буквы дальше? Без вариантов второе. Иначе точно свихнёшься. Кроме того, есть и в этом тёмном царстве луч света надежды на некий благополучный исход, ибо и сам Ломброзо признаёт: «Бывает, однако, что среди хаотического бреда в произведениях маттоидов-графоманов попадаются и совершенно новые, здравые суждения», а также «меткие оригинальные суждения, заставляющие сомневаться в их сумасшествии».. Разве этого аргумента не достаточно, чтобы «изводить целые тонны словесной руды единого слова ради»? Полагаю, достаточно. Итак, продолжим…
38. Легко быть любезным с людьми, которые не задерживаются.
Мы читаем, чтобы убедиться, что мы не одни.
Вчерашняя боль – это частица сегодняшнего счастья. (К.С. Льюис).
39. Заговорив, не прерывай молчания; в молчании не оставляй Беседы. 05.04.2012.
40. Мистическое богопознание – премысленное состояние верующего ума, благоговейно внимающее сознание, непоползновенное предстояние, ангельское служение, безмолвие премолитвенного единения с божеством Сущего.
41. Мистик и философ вчитываются в текст, чтобы возбудить собственное слово. Но для философа – это мысль (рассуждение), а для мистика – молитва (молчание ума, экстатическое созерцание, исступлённый восторг славословия). Оба стремятся к созерцательному состоянию, но архитектор разума строит своё созерцание как искусный зодчий, зная, к чему он стремится (имея цель, план и метод), а нищий духом богоискатель просит своё сокровище у Обладателя всего сущего, чая получить вожделенное даром. Ибо, пока он его не имеет, он даже не знает (и знать не может), что же это такое. Поэтому он молит Подателя истинных благ: дай мне это, ибо те, которые получили сие просимое, свидетельствуют, что в этом суть блаженство и конечная цель стремлений спасаемых Богом душ.
42. Утончённость всегда движется в сторону извращённости – ей просто больше некуда двигаться. 10.04.12.
43. Одиночество – лучший советчик. Клод Лелуш. 10.04.12.
44. Когда Адам был с Богом, он был тварным умом, имеющим божественное ведение, и существом, причастным Его блаженства. А когда отпал, сделался человеком, думающим мозгами, тварью, вкушающей горький хлеб тленного существования. 04.06.12.
45. Мы все очень заняты своими делами, поэтому без конца забываем о своих ближних, а Господу Богу заняться нечем, вот Он и заботится обо всех нас, непрестанно нуждающихся в Его любви и опёке. 04.06.12.
46. «Гениально – и только». «Виноват? – Терпи!». «Прекрасно, ибо бесполезно». Розанов. Мимолётное.
47. «Тьма, тишина и полноценность… Свобода есть утрата всяческих надежд… Лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу».
«Реальный жиган находит баланс между страстью в сердце и разумным поступком, в его решении равный баланс силы и верных решений».
«Анархизм означает освобождение разума человека от власти религии, освобождение тела человека от власти вещей, освобождение от кандалов и запретов правительства. Он означает социальный порядок, основанный на свободе собрания людей».
«Истинная свобода требует жертв и много боли. Большинство людей только думают, что хотят свободы, а на самом деле стремятся в узы социального порядка [и] жёстких законов материализма. Единственная свобода, нужная человеку, – свобода жить комфортно».
«Чем больше взрослею, тем больше понимаю, что возраст ума не добавляет, а только изнашивает. Я ни разу не умнее, чем был тридцать лет назад, только сильнее устаю жонглировать ложью и скрывать страх. Самокопание не выявляет моих ошибок, но лишь выматывает».
«Мы становимся лучше рядом с тем, кто нам по-настоящему близок».
«Мы хотим не меняться, но не можем. Чем мы старше, тем дальше уходим от того, кем себя считаем».
Sons of Anarchy.
48. Всякое действие бесполезно (бессмысленно), если его конечная цель не трансцендентна. Всякое трансцендирующее действие утешительно. 22.11.12.
49.
Существа без души –
Ткацкие челноки без нити,
Ткущие ветер.
Ткацкий челнок без нити
Ткёт в пустоте ветер. Моя мысль –
Сеть без улова.
50. 11 декабря 2012. Бог непостижим и суды Его недоведомы. Но Он заграждает уста всякому человеческому лукавству, хотящему от сей истины поискать себе оправдания и произносящему в двоедушном сердце льстивые слова: «Как мы, человеки немощные можем знать, чего хочет от нас Бог? Как Бог будет судить нас Своей Божественной силой, зная наше бессилие?» Для таковых лукавых умов, устрашаемых широтой Заповеди любви и желающих в букве Закона найти поводы к самооправданию своей лености и нерадения, Господь глаголет: «Я пришел не судить мiр, но спасти мiр. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день, Ин.12:47-48». Ибо благовествование христово «есть сила Божия ко спасению всякому верующему, …в нем открывается правда Божия от веры в веру, Рим.1:16-17». Итак, Богочеловек не предлагает нам вещей не постижимых, непосильных дел или невыполнимых требований. Не мерой божества Своего Он будет нас судить, но, придя к нам как Сын Человеческий, человеческим словом даёт нам образ (меру) любви к Нему, нашему Творцу и к нашим собственным братьям, меру, доступную для того, чтобы вместить её даже падшим и грешным человечьим сердцем, ибо приветствовать братьев возможно и для язычников (Мф.5:47) и то, «что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, Рим.1:19».
Итак, Господь говорит, что не Он судит мiр, но грешник, отвергающий своего Спасителя имеет в самом себе своего судью, и это есть слово Заповеди. Это означает, что существом Своим Бог трансцендентен сотворенному Им мiру, но действует в нем Своими божественными энергиями. Тварь не причастна сущности Творца, но живёт и существует в силу Его благодати. Он не требует от нас уже быть Ему подобными, но даёт силу и ведение ради творения дел приводящих нас к этой цели. Поэтому и не судит нас как Божество, но напоминает, что мы его создания, самовластные, но не самодостаточные (не самодовлеющие, не самобытные), свободные в произволении, но принадлежащие Ему как рабы по природе (ибо логосы естества, ипостазированные во временном существовании, имеют своё вечное пребывание в Божественной мысли). И будучи просвещены словом Истины, становимся ответственными за своё спасение. Поэтому и говорит: «Раб, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. Лк.12:47-48». Ибо достоинство обладания божественным ведением сопряжено с ответственностью за хранение своего посвящения и обязательством исполнять познанное самим делом. Неведение же лишает подлинных благ, но не избавляет от наказания за преступление. Зане «от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут». Однако взыскание есть следствие утраты дара, приводящего к блаженному состоянию. Причиной же наказания становится грех, творимый по страстям жительства, чуждого (не причастного) божественной благодати. Наказание же имеет своей целью исправление совратившихся, а отнюдь не бесплодное причинение страданий душе заблудшей, обманутой (по своей гордости) ложью диавола или прельстившейся (по немощи плоти) соблазнами тленных сластей мiра чувственной вещи. Исправление жительства воздремавших от уныния и лишившихся освящающего действия в них благодати восстанавливает исправившегося в чине причастников Святаго Божия Духа. Исправление грешника, углебающего (погрязшего) в языческом жительстве возводит его в чин оглашаемых словом Истины соискателей мира с Богом, приуготовляемых Церковью к восприятию Просвещения (Крещения).
Почитайте стихи автора
Наиболее популярные стихи на поэмбуке






