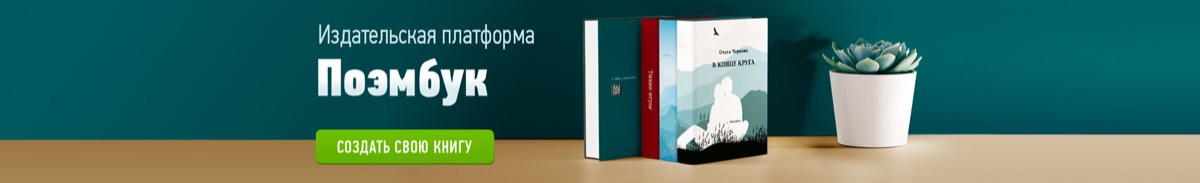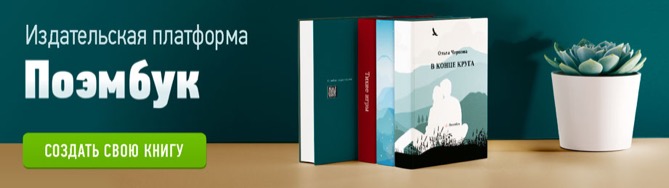Dr.Aeditumus
МОЖЕТ ЛИ ПРАВОСЛАВИЕ БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ?
18 фев 2024
Может, если современность будет Православной. Вопрос не в священниках, не в Церковной иерархии, не в обряде, не в формах народного благочестия и бытовой религиозности, и не в приходских нестроениях, и тем более не в куполах, крестах и колоколах, и уж особенно не в расшибленных лбах. Вопрос иначе может быть задан таким образом: возможно ли современному человеку, сегодня, здесь и сейчас жить Православно? Т.е. жить по заповедям Святого Евангелия, - первая из которых «возлюби», а вторая «покайтесь», - в полном их объёме и совершенстве?
А разве когда-нибудь вообще это было возможно? Для всех? Заповедь – не Закон, который не смотрит на лица, возраст, пол, обстоятельства, средства и возможности. А Заповедь смотрит, и различает: у кого один талант, у кого – пять, а у кого – десять, - и «если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет» (2Кор.8:12). По этой причине и предложено Господом два пути: общий, для всех верных равно спасительный, и путь совершенных, связанный с риском и подвигом, но для побеждающих имеющий особые обетования. Первый путь всегда современен, а второй – никогда, (или наоборот, это зависит от того, как понимать слово «современный» - во все времена неизменный, или напротив, непрестанно меняющийся, присущий только этому, актуальному моменту, гераклитовский).
Суть вопроса: быть или называться, внутреннее или внешнее, сущность или видимость, - разве не об этом самом Господь беседует в гл.23 «Евангелия от Матфея», обличая пред народом его формально духовных вождей? Что есть величина постоянная, неколебимое основание, неизменяемое содержание Предания (Традиции) и что есть только средство передачи, которому позволительно принимать вид и форму в соответствии со злобой дня, изменяться сообразно внешним обстоятельствам и внутренним возможностям? И которое из этих двух ответственно за истинное значение понятия «современный»?
Цель общего пути исполнения Заповедей – полнота веры и чистая совесть. Именно эти два условия - суть ключи, отверзающие искреннее сердце для приятия благодати в уготованный душевный сосуд (Деян.15:9; Евр.10:22). Вера есть врата, распахнутые в Царство Божие, к Богу, Который есть Любовь. Совершенство веры исполнителя Заповедей претворяет её из средства познания, опосредованного понятиями, в орудие добродетели, в живую благотворящую силу, своим истоком имеющую благодать Живаго Бога. Это уже не та немощная и хрупкая вера новоначальных, которая «от слышания» (Рим.10:17), но вера, обретшая ведение от опыта, «вера, любовью поспешествуема» (Гал.5:6, Славянский извод). Цель же пути отрекшихся мiра со всеми его благословными и греховными радостями и утешениями – совершенное бесстрастие сердца, безмолвие ума и в оном упокоении и упразднении действий и дел плотского жительства духовное созерцание Небесных таинств.
Итак, для делателя Заповедей Евангелие, Православие, внутреннее христианство, покаяние – всё это живо и современно и действенно, но для внешних наша вера – или объект научного изучения, или безразличный пережиток, анахронизм, забавный или мрачный, смотря по глубине омертвения совести, а с нею вместе и души. Ум, отравленный духом времени, духом мiротечения страстей скорее поймёт, примет, оправдает пигмея, который наслаждается у себя в джунглях, вкушая свежий слоновий помет, чем сердце своего соседа-христианина, очищающегося покаянием и благоговейно, со страхом и трепетом приступающего ко Св.Причащению Плоти и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Для призванных Православие современно, для ревнующих о спасении, для подвижников, для святых, ведь это даже не часть, не слагаемое их жизни, но САМА ЖИЗНЬ, её суть, смысл, цель, стержень.
Может ли быть для живущего не современной его жизнь? Если я живой и православный, то и Православие – моя жизнь, единственно доступная для меня современность, а вот лакомиться слоновьей лепёшкой для меня несовременно, хотя я знаю, что пигмеи, мои современники считают иначе. И не только они со мной не согласятся, потому что для меня много ещё чего есть несовременного: на дискотеках, например, «зажигать», или рвать жилы, пробиваясь в «высший свет», или курить «дурь», или делать карьеру, или «тусоваться», - словом, из существующих в настоящее время на этом свете вещей и явлений очень немногие можно назвать по-настоящему мне современными.
Разве оттого, что полтораста лет назад госслужащие были обязаны предоставлять в свой департамент справку о совершённом говении и ежегодном Причастии, Православие делалось для них живой современностью? Не мню. Благочестиво жили, т.е. соблюдали правила внешнего благочестия, если не все, то большинство, или многие в масштабах Российской Империи, или там Греции, Сербии, Византии, но так, чтобы Заповедь стала содержанием жизни, контрольной планкой, неугасимой лампадой в совести – таких с Диогеном наищешься.
Ведь даже в «образцовых» монастырях любой эпохи Православие как жизнь по Заповеди отнюдь не было современно, т.е. не было так именно понимаемо и хранимо безусловным большинством их насельников. Об этом ярко и ясно свидетельствуют жития святых и подвижников благочестия, их поучения, беседы, повествования и весь корпус агиографии в целом. Даже в Церковной среде, даже в малом и избранном стаде монашествующих современность для себя высоких идеалов Благой Вести доказали подвигом всей жизни только те, в чьём совете и сонме прославлен Бог и чей сонм избранников Своих Он прославил, сиречь чтимые святые. И эти-то, которых Сам Господь именует светильниками мiру, от кого и от каковых более всего терпели скорбей, клеветы, поношений, притеснений? Не от своих же ли собратьев, недостойных монахов да клириков, недуговавших различными порочными страстями, а паче завистью, и в лице праведника, как Каин в лице брата своего, имевших укор и обличение, неотложно предлежащие и неослабно тяготевшие над их совестью: гнали и убивали не ближнего, но Бога в своей немощной совести, бежали от Него и укрывались, как некогда согрешившие первожители Рая. Подобными примерами изобилуют жития аввы Дорофея, преп. Симеона Н.Б., Феодора Студита, Максима Грека и Максима Исповедника. «Да и все, - как сказано, - желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим.3:12).
Так о чём же речь? Чего ищем, чего востязуем, мiрского ли, внешнего, преходящего, сиюминутного и непрестанно меняющегося, или небесного, внутреннего, вечного, непреложного. Обновления ли желаем видимой жизни Церкви, Которая есть Небо на земле, Врата и Символ вечной Неизменности, свежих форм проповеди, новаторства в Богослужении, «учителей, которые льстили бы слуху» (2Тим.4:3), или обновления самих себя по духу и истине в служении Богу всем имением своим – всей своей жизнью? Итак, Православие может быть, а может и не быть современным как общественный институт, но было, есть и будет личной со-временность для каждой верующей христианской души, ибо «Иисус Христос вчера и днесь, тойже и во веки» (Евр.13:8). Аминь.
P.S. Актерство, театр – ложь по определению, а отец лжи лукавый. Ergo, он-то и есть величайший актёр, режиссёр и драматург. Сюжетов для искушений крайне мало, точнее столько, сколько существует видов греха по страстям, т.е. восемь. И, однако, мастерство искусителя таково, что в каждой иной ситуации, на любом из уровней нашего временного бытия, на всякой ступени общественных отношений он предстаёт странствующей по земной жизни душе в обличье соблазна неизведанной новизны и силы, а если искушаемый опознал свой старый грех, то этот древний гримёр и костюмер облачает свои приманки в невиданные ризы, накладывает на лик смерти макияж цветущей юности, показывает смрадное тление под личиной столь притягательной красоты и вожделенной сладости, что бедная, боримая страстью душа сама рада обмануть себя, покорно приняв лесть соблазна за свет истины, хотя и предощущает уже в свой глубине великую горечь разочарования в вольно принимаемом обмане (точнее, блуде), ибо ложь сатанина – не простое неисполнение посулов, не одна только несбывшаяся надежда на принятый за действительное мираж блаженства, нет, согласие на диавольское предложение есть клятвопреступление, отречение от Господа и Его любви, а тем самым и от себя самого, от своего спасения, от своей вечной блаженной жизни и радости непрестающего общения с Живым Светом Истины и обречение себя на вечность неизбывной муки в бесконечно сгущающейся тьме необратимой смерти, самоосуждение на изоляцию призванного к богоусыновлению человеческого духа.
29.10.2007.
Эпиграф. Ум верит тому, что видят глаза и слышат уши. «Рыба-мечь».
ПРИЛОЖЕНИЕ
Записная книжка «153», § XXVIII:
ЕВАНГЕЛИЕ – не роман, поэтому и богослужение – не театр, и икона – не картина, и молитва – не монолог. Итак, всякая попытка художественного переосмысления Благой Вести есть ложь, уводящая от Бога-Истины, от Святой Простоты Единого во мрак и призрачную множественность страстей «сада ветвящихся тропок» плотского мудрования человеческих домыслов. Подлинно человеческое – это то, что присуще нашему первозданному естеству, т.е. добродетель, а то, что некто поименовал «слишком человеческим» - это демонские наущения, действия страстной похоти, которые мы в силу привычки ложно считаем своей натурой. Всяк человек ложь, ибо тварь падшая, и свет собственного нашего ума есть тьма, доколе сей ум не просвещён Самим Богом силой и энергией Его благодати, а без сего и прежде сего падший разум, тщась потугами своими познать Непостижимого, напрягает либо рассудок, оную логическую машину, действующую по кибернетическим законам вещественного мiра, либо силу воображения, этот театр теней, где плоские персонажи – лишь проекции реальных лицедеев, бесов, играющих по желанию своего персонального зрителя любой «заказанный» им спектакль.
Покаяние – это change of the mind, умопремена, изменение падшего ума в сторону его первозданно целомудренного состояния (т.е. здравомыслия), и это исцеление «прокаженного», восстановление расслабленной пороком и покрытой струпьями греха некогда световидной словесной природы, ныне бесславно лежащей во прахе тленной сласти и брении страстной похоти у врат тучнеющей дурным навыком и «веселящейся на всяк день светло» грехолюбивой плоти, совершается благодатью Святаго Духа, живущей в слове Писания, Которое Божественная Сила составляла, действуя в уме телесно освящаемых Ею человеков по свободному их произволению и желанию пламенной любви всеянной в них Ею же.
Чем же тогда является художественное, философское, научное и прочее любое и всякое, но не духовное, незаконное (2Тим.2:5; Иоанн.10:1) «познание» духовной Истины? Ничем иным, как самоудовлетворением грехорастленного человеческого естества, во всяком деле и действии своего земного существования имеющего основанием, мотивом и движущей силой своих трудов самоутверждение в собственной греховности и удовлетворение своим греховным страстям, наслаждение тленной вещью, т.е. гордыню и похоть*.
Итак, подобное познаётся подобным. Бог познаётся божественным же (1Кор.2:11) духом, т.е. нам предложен только один и единственный путь – путь устроения себя, своей души в сосуд благодати, в живой храм Духа Божия и стяжания в хранимую чистоту духовных даров, к чему кроме покаяния нам иных средств Господом не указано (Мф.4:17). Се, путь богопознания, путь стяжания благодати Св. Духа и по действию этой Божественной силы соединения мысленной своей природы с Источником всякой мысли – соединения в Едином Духе. Всё прочее в лучшем случае – только тень Истины, а чаще же – ложь на Истину, морок демонский, пустое мечтание одурманенного и обманутого бесами ума, принявшего соблазн плотского мудрования по образу телесной вещи временного мiра, по действию составляющих его стихий, по содержащим его (мiр) устроение в циклически обновляемой неизменности законопорядкам за подлинно духовное ведение, за божественную премудрость, т.е. энергию собственной разумной природы, люминесцентное свечение своего тлеющего естества (lumen naturale intellectus) – за Свет Вечной Истины, просвещающий всякого человека, грядущего в мiр, посредством его веры и по мере его ревности в подвиге исполнения Св. Евангельских Заповедей. Аминь.
00ч.30м., 14.02.08.
*) См.: Еп. Илларион /Алфеев/. Священная Тайна Церкви, стр.80.
Отзывы
Самойлова Ольга19.02.2024
Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».
Швырнул далеко книгу я.
Ужели мы с тобой
Такого века сыновья,
О друг-читатель мой?.
...
...
Подождите! Прогресс подвигается,
И движенью не видно конца:
Что сегодня постыдным считается,
Удостоится завтра венца…» (с)
дальше много чего... сверхсовременного.
Значит маятник качнулся вспять.
И, наверное, всё передуманное и пережитое когда-то, все заданные, отвеченные и неотвеченные вопросы актуальны и современны всегда.
Dr.Aeditumus20.02.2024
Ольга,
Что сегодня постыдным считается,
Удостоится завтра венца...
ну, вот этому, мы точно свидетели, ибо то, что в нашей молодости было ругательным словом и позором, ныне ходит парадами и с наглостью невообразимой лезет в публичное пространство, не исключая заведений сугубо детских и религиозных.
Но в сокровенных глубинах мы ничем не отличаемся от человека времен апостольских, и вопросы принца датского современности не утратили.
Самойлова Ольга20.02.2024
Dr.Aeditumus, вот именно.
Почитайте Некрасова дальше. Будете поражены, насколько мы
откатились назад. Там, кажется, вся современность описана. Разве что за исключением сегодняшнего западного неописуемого непотребства.
Veteranus27.02.2024
У Василе Войкулеску, румынского врача и поэта, есть удивительные строки:
O, Doamne, sunt contemporan cu Tine
Şi sunt contemporan cu Veşnicia.
"Мне ныне современником мой Царь,
А я Ему совечником предстану".
Источник: https://poembook.ru/poem/2320596-vasile-vojkulesku_sovremennik-%28per-s-rumynskogo%29
Почитайте стихи автора
Наиболее популярные стихи на поэмбуке