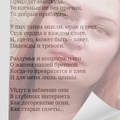Придут мои страхи

* * *
Что страшней, засыпать или просыпаться? Нет, это не вопрос. Страшней кого-нибудь разбудить. Скажем, вот этого, с рукой-кувалдой, застывшей на шее… Сергей, кажется? Будь она проклята, эта очередь бесконечных Сергеев, Арменов, Гургенов… хмыкнув, она непроизвольно охнула: рези в животе мгновенно проснулись, запрыгали.
Придётся встать, и тогда… чужаку захочется сонного женского тела. Страшно, когда среди ночи вонзится в глотку чужое дыхание, и кто-то вновь причинит ей боль, как будто насилие способно сделать самца притягательным. Ей захотелось стать неживой: шторой, столом, поленом. Пусть бьются внутри, лишь бы оставались снаружи. В душу не лезли! Рези в животе подпрыгнули. Она зашевелилась, ловко вынырнула из-под волосатой кисти. Не приведи Господь, доживу, что перестану воспринимать побои, подумала она. Всплыло в голове почему-то: тапочки под креслом, не под кроватью.
В складках живота что-то скрипнуло, и она усмехнулась. Бесконечные гели и притирания забили напрочь ощущение свежей кожи. Что внизу, что в плечах, что под мышкой. Больно сзади… изодранный клизмами анус ноет, но заживать не желает. Скоро буду, как полено… чёрт, не надо только лишнего шума! Страшно. Не хочется даже денег, и так уж стимул не больно велик. Днём и ночью боюсь, подумала она. Боюсь, что позвонят, и боюсь, что не позвонят. И тогда… нет, в эту сторону лучше не думать.
Боюсь невесёлых книг и писем с розовыми штампами – из налоговой, жилконторы, собеса. От мамы снова ничего. Не вспомню скоро ни лиц, ни имён. Кто тот мальчишка, не единственный, просто первый? Остальные не в счёт. Он любил целовать завитки волос... она в ответ ёжилась, притворно сердилась. Сейчас ей ухо резать начни, вряд ли поморщится. Нож заточен. Палач на месте. Восходит утро стрелецкой казни…
Мой нож заточен, похолодела она. В пропасть не шагают, в неё летят.
Боюсь не заболеть, боюсь, что после выздоровления придётся вновь рисковать. Четыре аборта, крылатый венчик заболеваний. Хорошо, без люэса обошлось. Какого чёрта валяюсь, одёрнула она себя раздражённо, пора припомнить, в какую сторону дверь. Дальше – на что нарвёшься. Будет невпроворот, придётся соврать, что начался понос. При таких запорах понос, как баунти... райское наслаждение.
Боюсь, что при расчете побьют или начнут измываться. Сутенер Витяша по кличке Сударик, как всегда, убедителен и безмятежен: все свои! В борделе только русские. Идиот. Приезжие сволочи держат нас за скотов – они практически импотенты, эти накаченные ребята с прокуренными лёгкими и заплывшими глазками. Мучают девочек за то, что тем не воскресить их недвижимость. Правда, под коксом любой сорвётся, словно кобель с цепи… приходится догнаться, не то порвут по бессознанке, как Тузик грелку. А после кокса жизнь не мила. Шершавые полоски по внутренней стороне предплечий, неумело порванные вены – лучшее тому доказательство. Боюсь умереть в беспамятстве, подумала она. Или узнать, что вот уже, умираю…
Долетел лёгкий вздох, и она застыла: Павлик же это, Пал Палыч. Господи, в кресле сопит их сын. Призраки прошлого, продумала она, призраки настоящего. Тяжеленная лапа на шее – Паша-старший, мой муж. Всё равно, будить никого не хочется. То, что томило сквозь сон, не уходит. Моё тело – мой крест, а страхи – ночная исповедь, подумала она, нашаривая тапочки. Другого раза не будет. Самое страшное, если где-то, совсем наверху, придётся всё рассказывать заново.