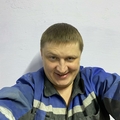Последний бой
Стрелять в чью-то голову наповал – это рок.
Сначала кровь к щекам приливает, потом холод.
Белым обездвиженным пальцем жмёшь на курок,
забывая, что ещё молод,
и столько разного у тебя впереди,
но сейчас твоё впереди разлетится с чужими мозгами…
И никого ты не сможешь уже убедить,
что это был твой главный личный экзамен
на силу и принцип, на правду и преданность вере,
потому что ты точно знаешь, что вот этот расколотый череп –
не человеческие плоть и кость,
а дерьмо и пластик…
И не убьёшь его, даже прошив насквозь,
но наручники уже впились в запястья,
и жизнь твоя, как несорванная виноградная гроздь,
высохнет, осыплется, скукожится в жалкий хлястик,
а сам ты – дебютант, не прошедший кастинг,
истлеешь в памяти даже бесплатного адвоката, –
нет у него стимула сомневаться: все, кто стреляют первыми, виноваты.
Но ты не сам придумал себе эту роль –
бойцовский пёс, а не пудель.
И пусть остынет кровь, затромбируется в каждом сосуде,
как концентрированная беспросветная боль, –
обратной ни баллистической, ни жизненной кривой уже не будет.
И даже сероглазая медсестра,
крепкий орешек Кира,
которую ты прижимал к себе до утра,
вычеркнув из сердца ваше лучшее вчера,
отведёт глаза, когда тебя поведут конвоиры,
ведь не дело это – стрелять в своего командира.
Кто был прав, кто не прав, рассудит бог,
если он всё-таки есть. Или вечность.
А пока тебя греет то, что чья-то дочь, рождённая в чужой вере,
трогательная и покорная, как овечка,
которую ты прикрыл собой,
чудом вырвавшись из ада и перебравшись на другой берег,
однажды снимет хиджаб,
наденет платок, как у местных баб,
красный-цветастый или пронзительно голубой,
зайдёт в твой храм –
неважно, будет Пасха или Ураза-байрам, –
опустит смородиновый взгляд, что-то странное пролепечет…
И поставит свечку.
За тебя.
И за твой последний бой.