ИТАКА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
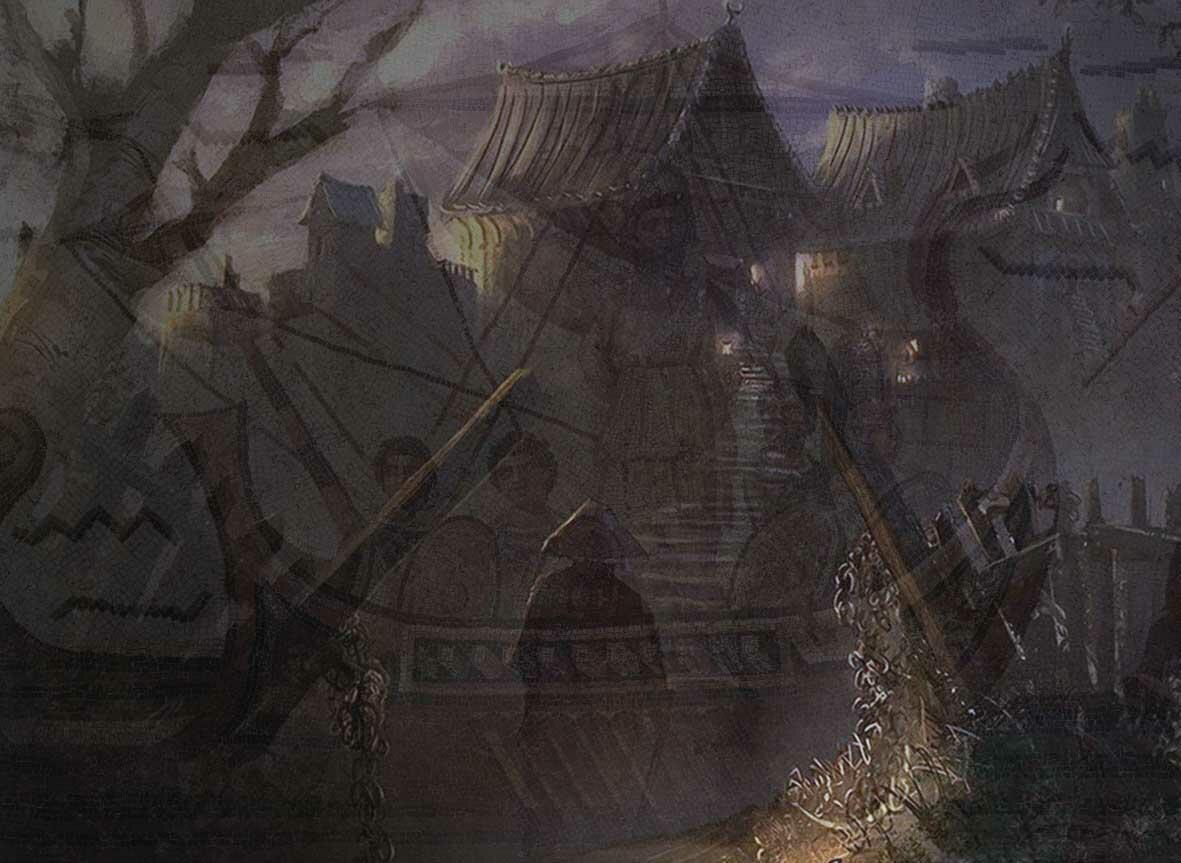
[Из повести "ПЕЩЕРА НАЯД]
{... И ни в коем случае не торопиться! Туда, где тебя не ждут, где про тебя забыли, надо идти осторожно, оглядываясь по сторонам. Тринадцать лет это многовато, чтобы надеяться, что про тебя ещё кто-то помнит.
Итак, бухта Ретра! В стороне от главной гавани, в стороне от города, туда не суются лукавые чужеземцы, там нет скользких, словно заплёванных, причалов, нищих, портовых девок. Ретра – это как внутренний дворик, место сокровенное и потому неухоженное, дно там неровное, бугристое, оттого и не показываются там иноземцы на своих неповоротливых галерах. Хозяева Ретры – вёрткие, как водомерки, рыбацкие лодки со вздыбленными носом и кормой и лёгким полотняным шатром посередине. Они, кажется, не касаются днищем поверхности воды, а лишь едва опираются на длинное кормовое весло. Воздух над заливом, как туча влагой, наполнен голосами – перекличкой шестовых, певучими командами лодочников, рубленными, на выдохе выкриками гребцов. Со стороны моря Ретры почти не видать, начисто закрывает её длинная гребенчатая каменистая коса. А напротив неё, за береговою кромкой – южный склон горы Нерит. Гигантской трёхпалой ступнёю циклопа уходит он в воду залива. И вот там, неподалеку от берега – знаменитая Пещера наяд...}
***
... – А я говорю– нельзя иметь с ними дело! Эти финикияне хитры и злобны, как гарпии. – Бородач с красным лицом и слезящимися от дыма глазами, в полотняной рубахе и в сальном фартуке мастерового выкрикивал эти слова, хотя никто из сидящих в корчме не думал ему возражать. – Что вы понимаете! Итакийцы всегда были козопасами да свинопасами, и мозги у них превратились в свиную похлёбку! Вот вы! – Взгляд его тяжело, как оловянный шарик, ткнулся в Одиссея. – Вы, вижу, нездешний. Вот имели вы дело с финикиянами?
– Имел, – кивнул Одиссей.
– Ну и, небось, хлебнули горя?
– Хлебнул.
– Вот! – коренастый возликовал, словно ему сообщили радостную весть. – Эти морские крысы дышать не дают никому. Куда ни плюнь – всюду тебе они. Вы, я гляжу, много всего повидали, так вот скажите мне...
– Ещё бы ему не знать, – вмешался в разговор человек с худым, измождённым, хотя ещё молодым лицом, – ежели у него нож финикийский!
Словно неведомая хворь точит чрево этого человека, воспаляет глаза, заставляет настороженно озираться, вздрагивать, нервно щериться.
– Ай да ножик! – продолжал восторгаться худощавый. – Я слышал, в Сидонии такие ножики делают из железных камней, что падают с неба. И как не боятся, нечестивые! А ножик что надо, не хотел бы я, чтобы такой пощекотал мне горло!
– А вы сами откуда будете, если не секрет? – поинтересовался коренастый, тоже с завистью косясь на клинок, висевший на поясе Одиссея. – Издалека, небось.
– Издалека, – кивнул Одиссей, но, поняв, что так просто не отделаться, добавил: – Из Тринакрии Слыхали?
– Ещё бы, – кивнул коренастый не совсем уверенно.
– А у нас на Итаке вы, значит, впервые, – вновь вклинился в разговор тощий.
– Нет, не впервые. – Одиссей глубоко вздохнул, словно ему не хватало воздуха. В корчме впрямь было душно. Одуряющий жар плыл и от огромного очага в середине зала, широких каменных жаровен. Грубые доски настила пахли винной плесенью, над ними плотными слоями недвижно стоял дым. Ленивые мухи перелетали с жирных объедков на глиняные винные фиалы. Одиссей отпил вина, поморщился и глотнул ещё. – У вас на Итаке я не впервые. Я тут был последний раз, – тут он сделал паузу, – тринадцать лет назад. Это было, вы, конечно, помните, во времена царя Одиссея...
Замешательство.
– Ну да, тогда ещё начиналась война с Троадой! О, славные были дни! Пять кораблей, сто двадцать воинов, самых крепких мужей Итаки, не в обиду будь вам сказано, почтеннейшие! И все это – туда, в мутную глотку Геллеспонта в лоно могущественной Троады. К зиме полагали покончить с Троей, а к концу следующей весны воротиться назад. – Одиссей засмеялся хриплым, каркающим смехом, закашлялся и, давясь, сделал глоток. – Все в это верили, никто не думал плакать. Сам Одиссей был юн и весел. А Левк! Кто-нибудь помнит Левка?! Они стояли рядом, как два брата-близнеца, их доспехи полыхали на солнце, каждая бляха – маленькое солнце, даже больно было смотреть... Очень больно...
Даже волоокая Пенелопа счастливо улыбалась...
{… Итак, Пещера наяд. С виду – обыкновенный грот, промозглый холод и тьма, округлое дупло в граните, уходящее в осклизлую утробу Вороньего утёса, пронизывающее его насквозь, одним концом ведущее вверх, на его скошенную вершину, а другим – вниз, к подножью, на самое дно бухты Ретра. Находились смельчаки, что решались, ощупью пройдя в кромешной тьме, добраться до развилки, в самом центре утёса, спуститься по уступам вниз, до воды и там, наполнив лёгкие спёртым, почти лишённым живительной силы воздухом, погрузиться в воду с тем, чтобы потом под общий восторг и вздох облегчения вынырнуть с матовым от удушья лицом и ошалевшими глазами с той стороны утёса, в изумительно светлой, полной сверкающей жизни воде лагуны, среди черно-зелёного, колышущегося водяного мха и морских звёзд...}
Среди них – Филомея, его сверстница, дочь зеленоглазой красавицы Эвриномы. А он, Одиссей, так и не смог, не решился, таким запредельным холодом дохнуло на него снизу, таким неимоверно жутким показался ему мёртвый, отдалённый плеск волн внизу, во тьме...)
– Так о чем я? – Одиссей тряхнул головой, вытер пот и допил вино из фиалы. – Эй, кто-нибудь, напомните-ка мне, купцу из Тринакрии, о чем он говорил!
– Вы тут изволили толковать о нашей почтенной государыне, – нервно усмехнулся тощий, – однако, уважаемый, у нас не принято эдак вот запросто о ней говорить. Это у вас в Тринакрии, может быть, можно, а у нас не положено. Вы просто устали, небось, с дороги-то, вот и захмелели. Ишь, даже вино не разбавляете. Не принято у нас так.
–... пять кораблей. Сто двадцать воинов, – сонно раскачиваясь, бормотал под нос Одиссей. Со стороны он впрямь походил на пьяного или безумного. – И где они сейчас, а? Хоть один из них вернулся назад, господа свинопасы?
– Ясно, что не вернулся, – с дурною улыбкой бормотал тощий, подсаживаясь ближе. – Как же возможно воротиться, ежели такая даль. Как изволили сказать, Геллеспонт? Ну совершенно невозможно. А вот о государыне, нашей матушке-красавице, так запросто нельзя. Я вообще думаю...
– Да что ты все бормочешь, – раздражённо отстранился Одиссей, – плевать я хотел на то, что ты думаешь.
– На что-о?! – взъярился вдруг тощий и кошкой выгнул спину. – Это на кого вы хотели плевать? Это вы не о государыне ли нашей тут...
– Э, ну-ка хватит, Ир, оставь его, – лицо коренастого вновь выплыло из дымной тьмы. Освещённое неверным пламенем светильника оно стало похожим на глиняную маску. – Перебрал чужеземец, случается. Я вот сейчас провожу господина купца, куда он пожелает. Можно на постоялый двор к Арибанфу. У него все заезжие купцы останавливаются. Солидный человек. Пойдёмте?
Он с усилием помог Одиссею подняться, обхватил рукой за туловище и, настороженно озираясь, повёл к двери.
– А с этим Иром, право, лучше не связываться, – говорил он, когда они вышли на улицу. – Дрянь человек. И девка эта тоже...
– Девка? Что ещё за девка?
– Да была там одна. Вы не заметили. Это она умеет. Что-что, а это умеет. Она и сейчас, небось, за углом. У, гадюка проклятая...
– А кто она?
– Меланта, тварь безродная. Приблудная дочка шлюхи Эвриномы, вот кто она такая.
– Эвриномы? – Одиссей вздрогнул и остановился. – Но ведь... Странно. Странное имя, я хотел сказать.
– Имя как имя. Эвринома была служанкой в царском доме... При прежнем царе. А потом спуталась с фиадами. Ну и сгинула. А приблудыш её – тут как тут.
– Довольно, – Одиссей нетерпеливо махнул рукой, – мне до того дела нет. Я вот что хотел у тебя спросить, почтеннейший...
– Орсилох, – угодливо и вместе с тем как-то неохотно подсказал коренастый.
– Так вот, Орсилох, я все же хотел бы узнать, много ль народу вернулось на Итаку с той войны.
– С войны, говорите? Дела такие давние. Хм... Да откуда много. На Итаку вернулись... четверо. Ну точно, четверо. Кто? Одного я не знаю. Другой – Масавлий, козопас, тот недавно помер. Есть ещё один, Эвмей, тоже пастух. Живёт на горе Нерит, вон она, видите? Только из Эвмея слова не вытянешь. И потом, – Орсилох обернулся по сторонам и перешёл на торопливое бормотание, – не надо бы вам обо всем этом говорить при всех, ну о той войне, о царе Одиссее. Давно это было, да и не любят у нас таких разговоров. С той самой поры, как государыня Пенелопа, хранят её боги в здравии, вышла замуж. Сами, поди, понимаете.
– Понимаю. Кстати, а как зовут её мужа?
– Антиной, – Орсилох вновь быстро обернулся и с вызовом повторил: – Достославный Антиной!
– Какой? Достославный? – Одиссей некоторое время молчал, потом с судорожной гримасой вернул себе самообладание. – Так в чем же слава его? Ежели он достославен, так уж, верно, прославил себя чем-то. Чем же?
– Чем славен? – Орсилох шмыгнул носом и набычился. – Ну это... Раз говорят, стало быть, так оно и есть.
– Разумеется, – Одиссей рассмеялся и кивнул, – Кстати, ты мне забыл сказать... о четвёртом.
– О каком ещё четвёртом? – Орсилох округлил глаза и боязливо отодвинулся.
– Мы говорили о вернувшихся с войны. Ты сказал, что вернулось четверо. Троих назвал. А четвёртый?
– Путаете вы что-то, господин, – Орсилох нахмурился и засопел, – Вы вообще на постоялый двор, вроде, хотели. Так и ступайте себе.
– И то верно, – Одиссей мрачно кивнул, – не положено. Жаль, Орсилох. А лицо мне твоё знакомо...
{Много всякого говорили и про Пещеру наяд, и про Вороний утёс. Что пещер таких в скале – видимо-невидимо, что она вся изрыта ими, как червивый пень, просто входы в них закрыты или обвалились. И ещё говорили, что лабиринты те возникли не сами собой, и не боги их сотворили, а что проделали их люди, прорубили непонятно для чего в толще гранита. Одни говорили, что гробницы там были, другие – что то был храм или дворец наподобие проклятого Кносского Лабиринта. Ещё в детстве, спускаясь со сверстниками в это сумрачное гнездилище тайн, Одиссей видел на гладких, точно отполированных стенах поразительно слаженную, волнующую тайным, непостижимым смыслом линию знаков, ажурных схем, рисунков, ясных и точных. Казалось, само время мучительно силилось объяснить ему что-то на далёком, давно забытом языке. Знаки, казалось, перерастали в мелодию, странные, различимые лишь глубиною сознания звуки... А на развилке, во чреве скалы все внезапно обрывалось, лишь прорубленные в камне грубые ступени – вверх, на скошенную вершину утёса, и вниз, туда, где лишь вселяющий тоску и ужас плеск невидимых волн, отнимающих свет и уносящих в небытие. Холод и тьма...}
Едва дождавшись, пока шаги Орсилоха мягко заглохли в темноте, Одиссей быстро отошёл назад, под низкую арку и осторожно толкнул калитку. Она с приглушенным скрипом отворилась и, нащупав на всякий случай рукоять ножа, Одиссей шагнул во мрак. Годы научили его кожей ощущать тьму и безмолвие.
– Эй, Меланта! – громко и весело сказал Одиссей, – Ты ведь здесь, я знаю. Хочу кое-что шепнуть тебе на ушко.
Тьма ответила смешком и еле уловимым шорохом.
– Мне и тут хорошо, чужеземец. И потом, воспитанным девушкам не подобает говорить разговоры с чужеземными купцами, да ещё пьяными.
Голос у неё низкий, хрипловатый, как у простуженного подростка.
– Э, да разве я пьян, красавица. Был бы пьян, так прошёл бы мимо и не заметил. А я вот и сейчас вижу, как сидишь ты на скамеечке в лёгонькой тунике, теребишь волосы, а другой рукой поглаживаешь коленки. Ах, что за коленки у нашей Меланты! Да будь такие у Пенелопы, хитроумный муж Одиссей в два дня разбил бы всех троян, а на третий бегом прибежал бы на Итаку, чтобы поскорей погладить такие чудные, круглые коленки. Да только они, наверное, озябли, а я знаю, как их согреть, да так, что им жарко будет...
– Да будет вам! – кажется, поднялось со скамейки. – А и в самом деле, как это у вас так выходит, чтобы видеть в темноте?
– Долго рассказывать. Ну так как? Я хоть и вижу в темноте, но говорить предпочитаю при свете. И вблизи.
– Если только на пару слов, – Меланта медленно, точно нехотя, выплыла из тьмы и почти вплотную приблизилась к Одиссею.
– Отчего ты дрожишь, сладчайшая? – спросил Одиссей, внимательно изучая её лицо. Густые, тяжёлые, кажется, чуть влажные волосы, слегка раскосые, широко расставленные глаза, плоское переносье, круглый, полуоткрытый рот... Совсем не похожа на мать. И на сестру. Подобные лица он видел в Египте у темнокожих нубийских рабынь. Светлая кожа почему-то делает такие лица глуповатым. Нубиянки известны своей пылкостью. Интересно, какова эта?.. Старается выглядеть развязной и многоопытной, но видно, что боится. В плохую игру играешь, девочка, в плохую.
– Я не дрожу, с чего ты решил? – встала ближе и едва заметно коснулась его бедром. Дрожать она впрямь перестала.
– И куда же мы сейчас пойдём, неотразимая Меланта? – Он погладил её по вздрогнувшей шее, затем рука его скользнула дальше, в прорезь туники, пальцы коснулись соска. Одиссей едва не рассмеялся, увидев с каким трудом её вытаращенные глаза пытаются жалобный страх выдать за сладострастное равнодушие. – Решай скорей. На постоялый двор к Арибанфу? Или куда-нибудь еще?
Меланта быстро кивнула, неловко высвободилась и, не оборачиваясь, низко опустив голову, засеменила вперёд. Шли вдоль извилистой глинобитной стены. У горбатого мостика через сточную канаву, где стена сворачивала вправо, Одиссей неторопливо и мягко положил руку на её плечо и неторопливо притянул к себе.
– Потерпи, чужеземец, – с тихим смешком отозвалась Меланта, не останавливаясь, но кокетливо запрокинув голову назад, – мы почти...
Договорить она не успела. Одиссей с силой рванул её на себя, схватил другой рукой за волосы и рывком прижал к стене.
– Чужезе... постой... – ошеломлённо забормотала Меланта, жмурясь и втягивая голову в плечи, точно силясь освободиться.
– Тихо! А ну говори, кто тебя послал? Говори живей, пока я тебе не сломал глотку!
Меланта лишь хрипела и таращила глаза.
– Говори! – Одиссей ослабил хватку. – Кто тебе велел за мной шпионить и тащить в какой-то вертеп? Этот, как там его, Ир? Или сам достославный Антиной?
– Тоже нет, –Меланта уже успела успокоиться, хотя все ещё с трудом выговаривала слова. – Это господин Эвпейт, его отец.
– Эвпейт?! Старый паскудник ещё жив? Хорошо. Там, куда ты меня вела, что должно было произойти?
– Это уж что скажете. – Меланта вскинула голову и усмехнулась.
– Ну-ка не скаль зубы, шлюха! Я говорю о другом. Там нас ждали?
– Нет! – Меланта, оставив кокетство, отчаянно замотала головой. – Наверняка нет! То есть...
– Наверняка! Откуда они прознали, кто я такой? Кстати, ты-то знаешь, кто я?
– Откуда мне знать. Я вообще ничего не знаю.
– А ты не скромничай. Так знаешь или нет?
Меланта промолчала и опустила голову.
– Ага, знаешь! – Одиссей вновь задохнулся от ярости. –Знаешь и смеешь называть меня чужеземцем? Ничего, я из вас выдавлю гной, господа итакийцы, покажу, какой я чужеземец! Запомни, я – басилеус Одиссей Лаэртид, мне и роду моему богами даровано право царствовать на этой земле! А вашего достославного я публично оскоплю и он ещё будет рад, что легко отделался. Поняла?
– Поняла, – покорно пролепетала Меланта.
– Как говорить надобно, тварь! – Одиссей встряхнул её так, что у бедняги лязгнули зубы.
– Поняла, государь, – Меланта тихо, заплакала от страха и боли.
– Э, хватит! Теперь вот что. Знаешь, где живёт пастух Эвмей?
– Знаю, государь, – Меланта протяжно всхлипнула.
– Отведёшь меня к нему.
– Прямо сейчас? Но это далеко.
– Разве я спросил – далеко или близко? Я сказал: отведёшь.
– Конечно, государь, – торопливо закивала Меланта.
(... Его отец, Лаэрт, говорил ему, что люди пришли на Итаку давно, ещё в незапамятные времена, когда мир был другим. И то были не ахейцы и даже не пеласги, что ушли с островов три столетия назад, а совсем другой народ. Отец называл имя того народа, но оно забылось. Они пришли с закатной стороны моря, что за Геракловыми столпами. Ахейские аэды зовут тот остров Атлантидой. Или Посейдонией. Потом боги прогневались на атлантов за нечестивость и послали на их земли воды Океана. И ныне за Геракловыми столпами – лишь бесконечное море.
То была ужасная катастрофа. Были волны в гору величиною, тридцать дней не восходило солнце, небо стало краснее меди, шёл дождь, не переставая, и горячие угли сыпались с неба, земля покрылась трещинами, каждая шириною в пять локтей, и трещины те изрыгали огонь и ядовитый дым. На землю сошли огненноликие титаны, и они хватали людей и разрывали на части. На тридцатый день море поглотило Атлантиду, она навеки скрылась в облаках пара и в толще воды. Она ушла в невиданную глубь, где нет ни рыб, ни гадов, ни травы, никогда ни единый смертный не опустится туда и не узрит той прекрасной, но проклятой богами земли. Из всего огромного народа атлантов уцелело лишь несколько сотен, они успели погрузиться на корабли и ушли далеко на восток, где страна Аккад. Увёл их человек, который стал у них там, на востоке, царём. Как его звали – неизвестно. Вавилоняне зовут его Ут-Напишти, моавитяне, курчавобородые жители сухих степей, зовут его Нух. Критяне говорят о некоем правителе Феры и Крита по имени Девкалион. Один ли это человек – про то Лаэрт не ведал... Вместе с ним ушли и потомки тех, кто переселился на острова с Атлантиды задолго до Великой катастрофы. Говорят, однако, что ушли не все. Некоторые не подчинились и решили остаться. Что стало с ними, были ли живы их правнуки, когда к Итаке полтысячелетия назад причалили птицеобразные челны пеласгов, – неизвестно...
Та катастрофа краем задела и Итаку, часть прибрежного плато опустилась в море, и на том месте теперь – бухта Ретра. Потому, должно быть, и выход из Пещеры наяд оказался на самом её дне...)





