ЛЛИИЮ́КЬЮ-2
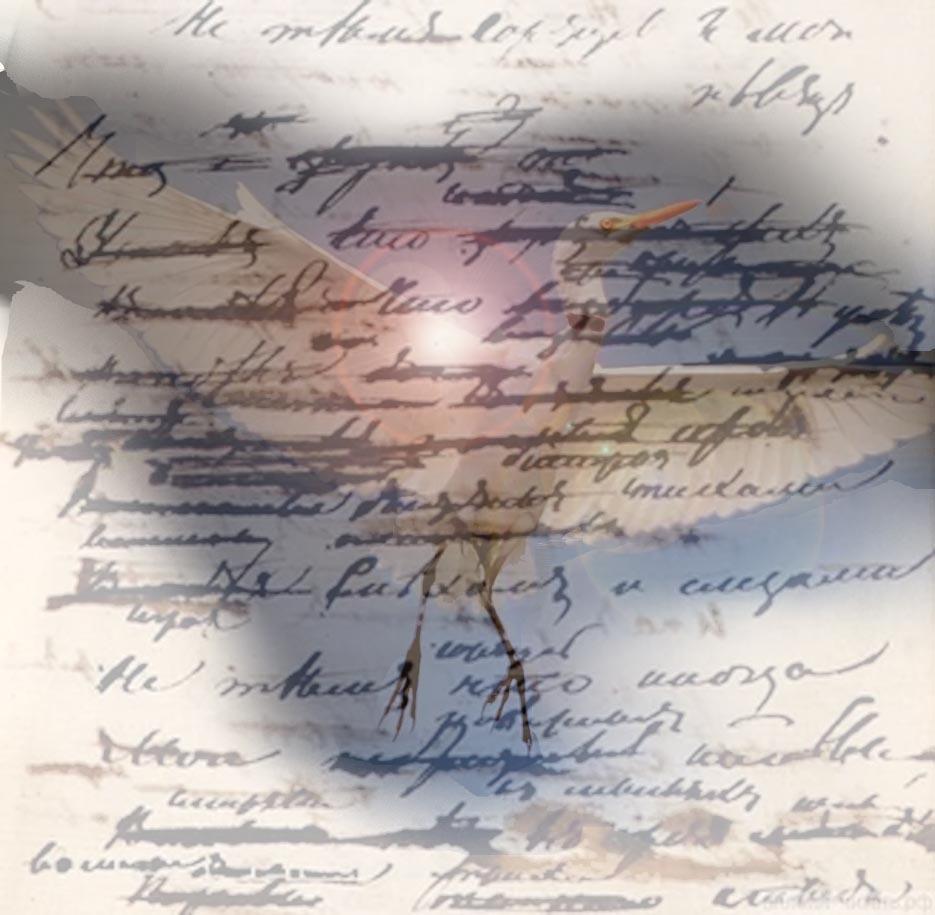
У бывшего лейтенанта флота, господина Паскаля Лавандьера дела поначалу шли в гору. Он женился на дочери почтмейстера, худенькой и застенчивой девице Гаэтан. Затем приключилась долгая, изнуряющая судебная тяжба со сводной сестрицею Манон, распутной и мстительной стервой. Процесс он, вроде бы выиграл, хоть и с немалыми издержками. Однако вскоре по непонятной причине загорелся большой доходный дом, что возле Тулонского собора. Пожар быстро затушили, из жильцов никто не пострадал. Однако постояльцы, от греха подальше, съехали все до единого. С той поры приток жильцов иссяк настолько, что дом пришлось продать за бесценок некоему рантье, который, как оказалось, был одним из содержателей мамзель Манон.
Чёрная полоса, однако, вскоре закончилась. Доходный дом он вскорости выкупил у того самого, разорившегося и спившегося рантье и переоборудовал в приют для сирот имени святой Соланж Буржской. Со временем приобрёл известность. Более всего по причине широкой благотворительности — всячески помогал семьям погибших моряков и солдат.
Однако же случаются у господина Лавандьера дни, обычно в середине сентября, когда вдруг он, забрасывает дела, даже самые неотложные, и отправляется на постоялый двор «Ле Бриз» в другом конце города. Уходит один, берёт с собою лишь бумагу, графитовые палочки, флакон китайской туши, изрядный запас восковых свечей, и не велит его беспокоить.
У супруги его, мадам Гаэтан, эти уходы вызывают понятную тревогу, посему она тайком завела дружбу с горничной с того постоялого двора. Та побожилась, что мсье Лавандьер мужчина благопристойный, женщин, боже упаси, в комнату не водит, ведёт себя тихо, за комнату платит аккуратно, на чаевые не скупится. А уж что он делает целыми днями в комнате, про то она не ведает.
Добрейшую мадам Гаэтан заверения горничной, с одной стороны вроде бы успокоили. Однако не до конца (о, знаем мы этих смазливых вострушек, горничных на постоялых дворах!) и она в один из таких дней набралась решимости и решила самолично навестить супруга. Добралась до двора, отыскала ту горничную, которая с готовностью сообщила, что с мсье Лавандьером, благодаренье богу, всё в порядке, что он сейчас в отлучке, спустился на рынок, но вскорости, верно, воротится. Когда мадам вознамерилась заглянуть в его отсутствие в комнату, горничная поначалу горячо запротестовала, однако пара серебряных экю смягчила её сердце и она, опасливо озираясь, отворила дверь своим ключом.
Ничего необычного и предосудительного в комнате не было. Если не считать устоявшегося дыма табака, который мадам не совершенно не переносила, и в беспорядке разбросанных по столу и по полу листов бумаги. Это также расстроило бережливую мадам, ибо бумага стоила недёшево. Некоторые были чисты, некоторые сплошь исчёрканы, некоторые безжалостно скомканы. Беспорядок мадам тоже не любила и принялась машинально собирать скомканные листы. Не найдя в комнате корзины для мусора, она машинально запихивала их в сумку, в коей принесла мужу домашней снеди…
— Тани́?! Можно спросить, что ты тут делаешь?
Голос прозвучал столь неожиданно, громко и отрывисто, что мадам Гаэтан вскрикнула от неожиданности, выронила сумку и в страхе поворотилась к двери. Мсье Лавандьер, стоял у входа, грозно насупившись и скрестив руки на груди. В какой-то момент показалось ей, что перед нею какой-то другой человек, внешне схожий с её мужем, но голос, взгляд, всё было какое-то чужое и даже как будто враждебное. Он не сводил с неё тёмного, сверлящего взгляда, однако завидев её перепуганные, вытаращенные глаза, вдруг смягчился и повторил уже тише и даже с некоторым подобием улыбки.
— Так что же ты тут делаешь, Тани́?
— Я… Я просто соскучилась, Калу́. Просто соскучилась. Тебя не было два дня. Я не знала, что думать. Поэтому…
У неё жалобно задрожал подбородок. Мсье Лавандьер ободряюще потрепал её по плечу и слегка прижал к себе.
— И я тоже соскучился, Тани. Правда соскучился. Сегодня вечером непременно буду дома к ужину. Непременно. Буду. Дома.
Голос был всё так же неузнаваемо холоден и отрывист. Лавандьер мягонько, но настойчиво подтолкнул её к выходу. Мадам Гаэтан и сама не заметила, как очутилась в коридоре перед закрывшейся дверью, неожиданно столкнувшись со смущённой горничной, которая, по всему видать, подслушивала.
И лишь добравшись до дома, мадам обнаружила в сумке, кроме так и не отданных угощений, три скомканных листа бумаги.
На одном было два рисунка. Госпожа Гаэтан знала об изрядных способностях супруга в живописи, однако, будучи женщиной сугубо практичной, значения большого этому не придавала.
Но в тот день те рисунки просто поразили её воображение. Каким-то необъяснимым сочетанием торопливости и законченности.
На обоих изображена девочка лет четырнадцати с тёмными, как бы взлохмаченными ветром волосами и скошенной, почти закрывающий правый глаз чёлкой. Но на одном она улыбалась с истинно детской беззаботностью. На другом же — тревога, опаска и, как будто, предостережение… Этот второй рисунок произвёл на Гаэтан поистине странное, даже гипнотическое воздействие. Она несколько минут простояла словно в параличе, безотчётно силясь осмыслить ту нить, которая, как ей казалось, связывала её с этим изображением. И ещё показалось ей, что она, словно в магическом зеркале, увидела нечто такое, что она скрывала от всех, и, главное, от себя самой.
Под первым рисунком было крупными, каллиграфическими буквами выведено: SOLANGE. Под вторым — SIBYLLE.
Оба рисунка соединены встречными волнистыми стрелками и под их соединением — сразу несколько жирных вопросительных знаков.
Другой лист был густо испещрён несусветными каракулями. Настолько, что разобрать, что там начертано, было немыслимо. Не помогло даже недавно приобретённое увеличительное стекло. Разобрать можно было лишь отдельные слова. Однако самое удивительное, мадам Гаэтан явственно показалось, что выводил эти каракули вовсе не её муж, а некто другой. Буквы были начертаны совершенно иначе. В частности, в слове «abîme» у буквы «m» снизу было три маленькие петельки, а в слове «flambée» буква «F» была выведена печатно, чего её супруг, обладавший, как уже было сказано, идеальным почерком, никогда не делал. Более того, очевидно было также, что писавший вообще был левшой…
От этого открытия мадам Гаэтан стало вовсе не по себе. Даже разболелась голова. И она благоразумно решила про себя ни с кем не делиться своими опасениями и догадками. И уж тем более, ничего не говорить мужу.
Третий лист. Сверху посерёдке красовалась размашисто выведенная семиугольная звезда с буквой «S» в центре.
Зато за ней — идеально ровный, без задоринки столбик из строчек, выведенных уж безусловно мсье Лавандьером. Она не сразу поняла, что ровные, выстроенные в столбец строки есть стихи….
Тревожное биенье бытия спускается до нулевой отметки.
Разумное становится абсурдным и азбучным становится абсурд.
Слоистый мир туманных превращений влечёт к себе, но не пускает вглубь.
Упругою, зыбучей оболочкой отталкивая в строну: «не время»!
Слова чужие протекают мимо, минуя слух, но я их слышу ясно.
Живые и ушедшие приходят, смеются, плачут и нет разницы меж ними.
Хитросплетенья мыслей потаённых ведут, ведут неведомо куда,
Туда, где простирается безбрежный, фантомный горизонт Небытия.
[Далее строфа безжалостно вымарана, а на полях написано снизу вверх какое-то непонятное слово на , причём всё тем же чужим почерком. «ЛЛИИЮ́КЬЮ» ].
Великий Боже, освети мой разум. Хоть на мгновенье обозначь пунктиром
Глухие катакомбы сновидений. Дать хоть зацепку, искру, слабый блик!..
Но, может быть, ты слишком милосерден, и потому ты гасишь торопливо
Мрак сновиденья утренним лучом…
Из прочитанного обеспокоенная мадам Гаэтан не поняла решительно ничего. Поначалу решила сжечь эти листки от греха подалее, благо в сентябре дул промозглый ветер с моря и в доме топили камин. Однако уже возле камина мадам передумала, сложила листки в старую почтовую суму, где хранила письма от покойной матушки и свои отроческие рисунки.
Мсье Лавандьер воротился, как и обещал, точно к ужину, к восьми часам пополудни. Точность не изменила ему. Однако был он опять-таки какой-то не такой. Плохо выбритый, помятый, даже с ввалившимися глазами. И пахло от него спиртным, да не красным Божоле, кое он всегда предпочитал, а чем-то позабористей. За ужином постоянно прислушивался к двери, будто ждал кого-то. А когда во дворе протяжно завыл старый доберман Гаспар, вздрогнул, испуганно обернулся и вперил в супругу встревоженный, непонимающий взгляд.
— Это же Гаспар, Калу́! Наш Гаспар. Он всегда воет, когда дует ветер с моря.
Лавандьер закивал, торопливо поднялся, не задвинув стул, направился к лестнице наверх, прихватив с собою непочатую пинтовую бутылку арманьяка.
От всего этого мадам Гаэтан расстроилась несказанно, даже коротко всплакнула. Однако вскоре успокоилась, ибо знала: назавтра всё снова будет как прежде. Так оно и оказалось, наутро следующего дня мсье Лавандьер спустился, будто и не было этих трёх дней, тщательно побритый, с аккуратно подстриженными усиками и бакенбардами, обильно надушенный дорогой Кёльнской водой, за завтраком много шутил, рассказывал разные занимательные морские истории, чего в обычные дни не делал никогда. Жизнь пошла привычным чередом. И шла так ещё семь лет. А через семь лет таким же сентябрьским вечером он не вернулся домой к ужину. И наутро к завтраку не вернулся. Обеспокоенная не на шутку мадам Гаэтан пошла было на постоялый двор «Ле Бриз». Однако горничная сухо и неприязненно сообщила, что мсье Лавандьер не далее как третьего дня из номера ушёл и более не возвращался, и даже не расплатился за постой, чем она была огорчена более всего.
С тех пор в городе его никто не видел. Через полгода мадам Гаэтан объявила себя вдовой, а еще через пару месяцев сняла траур и вышла замуж, стала мадам де Буаселье, родила двойню, и о своей прежней жизни предпочитает не вспоминать.
Господина Лавандьера сочли умершим и даже отпели в церкви. Хотя некто Клаус Кёстлин упомянул в своих записках одного француза, П. Лавандьера, которой сопровождал его в экспедиции в джунгли Амазонки. Однако экспедиция та закончилась весьма плачевно и сведения о судьбе её участников запутаны и противоречивы.
Отзывы
Важинская Лора25.09.2019
Захватывающее...





