ЛЕСОПАРК-II
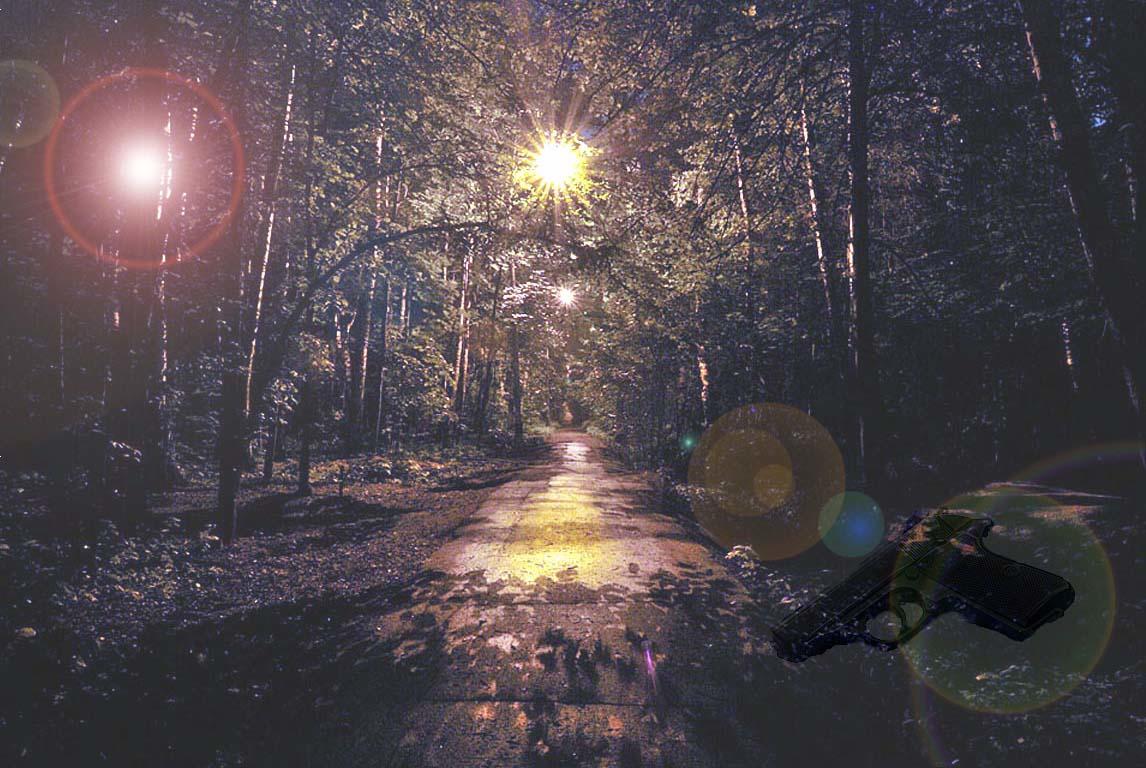
***
В вестибюле больницы его окликнул маленький, бестолково мечущийся человек в куцем белом халате, накинутом на нелепую джинсовую куртку с клоунским галстуком. Похоже, с ним он и говорил по телефону. Он участливо схватил его за локоть, буквально втолкнул в лифт, словно боясь, что он вдруг откажется. «Представляете, полный шок. Ужас какой-то. Анна Владимировна... Я еще подумал, с чего это, почти в одиннадцатом часу, на работу. Никого ж нет, даже шеф уехал. Одни вахтеры, охрана... Ей с вахты позвонили. Мол, вы еще долго, Анна Владимировна? Около одиннадцати это было. Она говорит: полчасика. Да еще, знаете, весело так. Что-то еще пошутила, вахтерша даже засмеялась. И вот — около двенадцати ночи... У-жас! Охранник говорит: вышел покурить, смотрю, окно на десятом погасло. Ну, думаю, наконец-то закончила полуночница наша. И вдруг окно настежь... В общем, прямо возле автостоянки... Сразу, конечно, «скорую» вызвали. Да что там, она и до приезда не дожила. Виктор Михалыч подъехал. Почти сразу. Ему доложили. Он тоже буквально...
— Слушайте, а может, это... — Воронин уже не мог остановиться, хоть понимал, что несёт идиотскую бессмыслицу, — может, это все ошибка какая-то. Вы поймите, не могла она!
— Ну нет, что вы, — человечек покачал головой. — Какие ошибки. Я ж вас знаю, Павел Валерьевич. Да и вы меня знаете. Вадим меня зовут. Встречались мы с вами на юбилее Виктор Михалыча, вы забыли просто.
Они вышли из лифта, пошли по слабоосвещённому, холодно-синему коридору. Человечек все это время кому-то махал руками, делал знаки, гримасничал. На углу он едва не сбил с ног женщину, похоже, врача. Яркую, накрашенную брюнетку в нарочито обтягивающем халате. Она глянула на него поначалу с недоумением, затем, уловив, видимо, какой-то боковой жест человечка по имени Вадим, глянула уже с протокольным участием.
— Ленская. Руфина Леонидовна, — протянула для чего-то руку. Затем быстро отдёрнула. Рука была сухой и неприятно горячей.
— Что там? — спросил Воронин, вновь содрогаясь от нелепости вопроса.
— Сейчас, одну минутку, — врач кивнула. — Сюда, пожалуйста.
Они вошли в ярко освещённое помещение, человечек исчез, врач Ленская, опередив его, остановилась перед чем-то серо-металлическим.
— Одну минуточку, — вновь сказала она каким-то дурацким, торжественным голосом. — Возьмите себя в руки.
Воронин хотел обойти её , но она вдруг вновь с настойчивостью встала на его пути.
— Слушайте! — он начал выходить из себя, однако махнул рукой.
Ленская смотрела на него в упор исподлобья, словно вычисляла что-то. Затем кивнула, отошла вбок, мимоходом откинув с носилок угол простыни...
***
...Была лишь оболочка, заполненная чем-то серовато-неживым. Эта оболочка с отвратительной, аляповатой небрежностью передавала её черты, какой-то грубый, первоначальный гипсовый набросок. Глаза закрыты, словно человек просто устал и не хочет никого видеть. Ссадины на щеке и на лбу, бурые разводы какие-то на подбородке, похоже, кровь была. Серый свитер почему-то порван у горловины, тоже в бурых пятнах. Аня...
Он вновь почувствовал, что ему совершенно необходимо задать этот лишённый смысла вопрос.
— Она... — он начал уверенно, потом осёкся, словно забыл, что хотел сказать, жалко заглянул в глаза, — Это все?
Ленская с сочувственным недоумением пожала плечами и кивнула. На мгновение он почувствовал какую-то безвоздушную слабость в ногах. Свет показался нестерпимо ярким. И он подумал, как о чём-то обыденном и само собою разумеющемся, что сегодня он умрёт, потому что жить с этой болью, которая еще не пришла, но придёт очень скоро, он все равно не сможет. Потом мысль о смерти не то что пропала, но стала тонкой и прозрачной, сквозь неё стали проглядывать какие-то другие мысли.
Он пришёл в себя от того, что кто-то давно и настойчиво похлопывал его по локтю. В раздражении он отдёрнул руку.
— Вам лучше выйти сейчас, — услышал он голос Ленской.
В коридоре он вновь увидел человека, которого, кажется, звали Вадимом. Он стоял спиной к нему, прижав к распластанному уху серебристую коробочку сотового телефона. Левой рукой при этом ерошил и без того всклоченные волосы и монотонно бубнил: «Понял... Угу... Угу... Понял...Есть...»
Увидев Воронина, он заулыбался, комично скосив глаза на трубку, словно невидимый собеседник намеревался передать ему, Воронину, нечто весёлое.
— Всё под контролем, — шепнул он и кивнул для убедительности.
— Что? — не понял Воронин. — Что под контролем?
— А! — Вадим вдруг махнул рукой, сконфуженно осклабился, прикрыл ладонью трубку и отстранённо зашептал: — Это я так. Зарапортовался. Бывает.
Воронин отошёл. Он был все еще спокоен, ибо до полного осознания того, что случилось, что Анны в его жизни нет и больше не будет никогда, было далеко. Странно, сейчас он даже испытывал нечто вроде облегчения: тягостная, ужасная процедура позади, сейчас он вернётся домой, где нет этих холодных, деловитых людей, этого мертво мигающего света, этих бессмысленных фраз. И дома можно будет сесть к телефону и куда-то звонить, убедительно, по пунктам доказывая, что всё это — ужасное недоразумение, которое скоро развеется... А здесь он чувствовал себя отражением в зеркале в чужом, враждебном доме. Отражением, которое хочется старательно стереть, чтобы оно исчезло навсегда.
Он отошёл к окну. Вадим, продолжая стрекотать по телефону, двинулся машинально за ним. Из окна был виден косой пролёт незнакомой улицы, плоская, почему-то ярко освещённая крыша какого-то строения внизу. Там тоже была какая-то крыша. Навес. И что она вот так же подошла к окну, глянула вниз, открыла эти ужасные винтовые запоры, наверняка такие же, как здесь? Встала на подоконник?... Нет. Это невозможно. ЭТОГО НЕ МОГЛО БЫТЬ.
— Невозможно, — сказал он коротко и решительно, словно наконец подвёл итог каким-то длительным умозаключениям.
— Что? — Вадим вновь досадливо отвёл в сторону трубку. — Что вы сказали, простите?
— Это невозможно, — повторил Воронин, обращаясь к нему, как к давнему оппоненту. — Вы поймите, — Воронин прижал к вискам ладони и вдруг рассмеялся, будто подчёркивая всю смехотворность возражений. — Она не могла. Вот так, из окна... Кто угодно, но не она. Это просто бред.
Он всё повторял и повторял это бессмысленное нагромождение слов, силясь убедить непонятно кого непонятно в чём. Он готов был представить сотни стройных доказательств того, что этого не могло быть, и вообще то, что происходит здесь, — неправильно и смехотворно. Ему снова захотелось рассмеяться, чтобы высмеять эту тупоумную чушь, и он сдавленным клёкотом загнал было смех обратно, но он в обход вырвался наружу.
— Я тут... перезвоню, — гнусаво и значительно сказал Вадим. Трубка мелодично пискнула. Он повернулся и глянул на него с раздражённым сочувствием, как усталая няня на не желающее засыпать дитя.
А Воронин все смеялся, содрогаясь собственному бабьему смеху и ничего не мог с этим поделать. Вадим, до того глядевший на него со страхом и недоумением, вдруг тоже сконфуженно хихикнул, однако спохватился и, словно вспомнив о чем-то второпях забытом, суетливо полез во внутренний карман.
— А, вот здесь! — он бережно извлёк на свет элегантную отдающую позолоченным никелем прямоугольную фляжку, отвинтил крышку в виде головы глумливо гримасничающего гнома и протянул Воронину.
— Вот. Вам ей-богу не помешает. Валяйте, Павел Валерьевич, можете прямо до конца. Там грамм сто пятьдесят всего- то.
Воронин наконец смог остановиться и отрицательно замотал головой. Из фляжки неожиданно терпко пахнуло коньяком.
— Вы выпейте, Павел Валерьевич, не помешает вам, право слово, не помешает. Коньяк хороший, между прочим.
Воронин наконец взял согретую в кармане фляжку, сделал глоток.
— Вот и хорошо, — тонко заблеял Вадим. И снова запричитал, как над больным ребёнком. — Теперь еще глоточек.
Не заметил Воронин, как допил флягу до конца. Коньяк комочком вполз вовнутрь. Стало не то что легче, но он как-то осознал себя, что нужно теперь что-то делать, пусть бестолково, невпопад, но делать. Даже Вадим, маленький и пустой человечек, показался симпатичным, и даже искренне сочувствующим.
— Тут, Павел Валерьевич, нужно бы подписать кое-что. Ну сами понимаете, люди людьми, а формальности формальностями. Все, как говорится, там будем, но жить-то надо.
— Да, конечно, — охотно кивнул Воронин и тут же быстро переспросил: — Как вы сказали?..
Но Вадим, бесцеремонно взяв его за рукав халата, уже водил его по каким-то кабинетам, уверенно, будто тем всю жизнь и занимался. Он отдавал распоряжения совершенно незнакомым ему людям, и те удивлённо ему повиновались. «После, после», — отмахивался он от кого-то. «Только не затягивайте, бога ради, бодягу... Ну я же сказал, все будет улажено. Пусть вас это не волнует, вы знайте делайте своё дело. Виктор Михайлович все уладит... За счёт банка, разумеется, за кого вы нас принимаете...»
— Ну вот и все, — усталым и довольным голосом, — сообщил Вадим. — Сейчас машина будет. Как зачем? Странный вы, ей-богу. Домой забирать.
— Домой? То есть как? Она разве...
— Ну домой повезём, как! — едва не вышел из терпения Вадим, и тут же вновь успокоился. — Возьмите себя в руки, таким молодцом держались, я восхищался. Так что давайте. Родным сообщите. Живы у неё родители.
— Нет. Только сестра с мужем...
***
...Они считались счастливой парой. Образцовой. Да в общем-то и были. «Всем бы так жить», говорили про них.
Учились на политехническом, правда на разных факультетах и в разных зданиях. Познакомились на третьем курсе.
Был у него приятель, Коля Шатунов. Тоже с Политеха. Их матери были когда-то сослуживицами. С тех времён установилась традиция отмечать их дни рождения. Так и тянулось. Воронин зашёл тогда к Шатунову как раз дня за два до его дня рождения. По какой-то уже забытой надобности. Звонил долго, из-за дверей доносился невообразимый гвалт, музыка, выкрики какие-то. «Похоже, загодя гулять начал Шатун», подумал Воронин, хотел уйти, но дверь открылась. Открыл её незнакомый парень в очках, в костюме, даже при галстуке, но босой.
— Привет, — сказал он. Его сильно качнуло, пришлось поддержать. — Ты кто? Ни черта не помню.
— Да так, один. Шляюсь тут. Мне бы Колю.
— Шатуна? Это запросто. Только погоди немного. Он ...
— Что?
— Ну херово ему, понимаешь? — Парень щёлкнул себя по шее, его опять качнуло, он цепко взялся за косяк, лицо его стало комично серьёзным.
— Понимаю, — сказал Воронин. — Ладно, не горит. Завтра зайду.
— Стоять! — скомандовал парень и пошёл, шлёпая пятками, зигзагом к ванной. У двери остановился. — К-как прикажете доложить?
— Скажи Воронин. Павел Воронин.
Парень кивнул и исчез в ванной. Оттуда доносились шумы, неясные, но характерные. Затем дверь открылась, босой вышел.
— Велено препроводить в залу и немедленно налить, — сказал он, с трудом выговорив трудное слово «препроводить». — Пожалте со мною.
Воронин оказался втолкнут в Колькину комнату. Там было так дымно, что защипало глаза. Его тычком усадили на шаткий кухонный табурет, представили почему-то Сергеем Черновым и что-то налили в щербатую чайную чашку.
— Вот мы с вами и встретились, — услышал он вдруг. — Как интересно.
Рядом с ним сидела девушка, вся в чем-то синем. Стрижка короткая, под мальчика, косая светлая чёлка, голос немного низкий, смотрит почему-то исподлобья, но улыбается. Красавицей не назовёшь, но лицо запоминается. Особенно профиль. Тонкий, немного горбоносый. Ему нравились такие. Фигурка, похоже, на месте, хоть и сидит, а видно. Нога за ногу. Коленки славные.
— Что вы сказали? — переспросил, хоть и расслышал. Нагнулся поближе. Духи хорошие...
— Мне о вас Николенька много рассказывал.
Говорит, почему-то глядя в сторону. Лишь изредка глянет и тут же прикроет глаза. Фасон.
К нему полезли чокаться, он выпил. Какая-то ядрёная, гадкая настойка с древесно-уксусным вкусом. Пока пил к отходил от пойла, морщась и тряся головой, соседку его уже пригласили танцевать. Причём так грубовато по-свойски, даже не глянув на него. Он почему-то решил назло непонятно кому пригласить полную, глубоко декольтированную блондинку, одиноко стоящую у балконной двери, прижавшись лбом к стеклу. Блондинка однако отказалась, попросту недоуменно отмахнулась, не оборачиваясь. Воронин обиделся и уж было решил удалиться. Эка, тоже, невидаль, а то девок он не видал. «Не обижайтесь. Галочка вызвала такси и теперь ждёт. Ей домой надо, понимаете?» — услышал он участливый, насмешливый голос и вновь увидел перед собой недавнюю соседку. — Так что барышни у нас нынче все заняты. Ну кроме меня, разве что». Она развела руками и рассмеялась.
Танец затянулся. Взаимное сближение начало приобретать откровенный характер. Голова Павла Воронина прильнула к её предусмотрительно открытому плечу, правая рука томно перебирала её пальчики, а левая опустилась много ниже положенного. Дальше — больше. Кто-то. проплывая мимо, бросил, неприязненно покосясь на Воронина: «Ковалёва, не увлекайся. Мужу-то все скажу». А тут как раз оборвалась и облегчённо завертелась магнитофонная бобина и страстная битловская «Oh Darling!» оборвалась вместе с нею...
«Испортил песню, дурак», — сморщилась Анна Ковалёва, переводя дух. А Павел разочарованно кивнул, ибо интерес его к партнёрше угас: он недолюбливал замужих дам с их проблемами и боязливо-порочными страстями. Кстати, под мужем подразумевался тот босоногий и пьяный, что открыл ему входную дверь. Никаким мужем он не был. Просто некоторое время они как бы состояли друг при дружке.
А еще неделю спустя был институтский вечер. Воронину удалось быстро отбить всех Аниных кавалеров, коих было поначалу не счесть, потому как одета она была как-то вызывающе завлекательно. И вновь были упоительные танцы без оглядки на окружающий мир, а потом — еще более упоительное провожание, после которого Воронин вернулся домой под самое утро, всклокоченный, чумной и совершенно счастливый.
А потом случился бурный, демонстративно эпатажный роман. Хотя на самом деле никого они, конечно, не эпатировали, таких фрондирующих парочек было на каждом потоке по несколько штук. Их хоть и воспринимали как нечто единое, неделимое, но, зная натуру Анечки, ждали скорой и незатейливой развязки. Воронина тоже стали называть мужем, и это его раздражало. Хотя где-то в глубине души нравилось.
А завершилось все это безумной двухнедельной поездкой в столицу, в самый разгар сессии. Итогом поездки стало отчисление Воронина за академическую задолженность. Осенью Воронин ушёл в армию. Получил от Ани два письма, одну открыточку ко дню рождения. И на этом все. Переживал, конечно, но как-то спокойно, ибо, опять же в глубине души, ничего иного и не ждал. Из писем приятелей узнал, что Анна уехала в Нижневартовск и там, вроде бы, вышла замуж. И вообще, очень удачно устроилась.
А Воронин, воротившись из армии, без приключений доучился оставшиеся полтора курса, распределился в Казахстан, в пыльно-серый и скучный степной городок, вскоре сошёлся там с женщиной много старше себя, молчаливой брюнеткой, полунемкой, полуказашкой и по простоте прописал её в комнате в коммуналке, которую получил как активный рационализатор. Очень скоро в комнате появился сын этой женщины, угрюмый и туповатый двенадцатилетний подросток. Воронин, впрочем, не переживал, ибо понял, что рано или поздно станет здесь лишним. Коллеги и сослуживцы, давно и заинтересованно следившие за происходящим, злорадно вздохнули, и Павел Воронин решил их не разочаровывать, тем более что и срок его распределения закончился.
Как-то утром собрал чемодан, записку решил не оставлять за ненадобностью, и съехал в гостиницу, затем вернулся в родной город. Мать и сестра были рады, надо полагать, но радость свою тщательно скрывали, потому что у сестры Виктории уже много лет налаживалась личная жизнь и никак не могла отладиться. Посему Воронин не очень охотно бывал дома, с удовольствием соглашался на любые командировки.
Зашёл однажды к Коле Шатунову. Тот только что выписался из больницы — расшибся по пьяному делу на мотоцикле. Повспоминали. Решили с толком отметить надвигающееся Колькино тридцатилетие. Припомнили, что вот уж десять лет назад, в этой вот как раз комнате...
«Еще бы не помнить! Ты еще ко мне тогда припёрся —захохотал Шатунов. — А тут у нас полный гужбан. Я натурально в отключке, в ванной отдыхаю. Весёлое было время. Анька там еще была Ковалёва. Помнишь, небось».
«Помню, как же. Она как, кстати?»
«А вот зайди да и проведай. Рада будет. Старая любовь, говорят, не ржавеет. Главное — смазывать вовремя».
«Верно. Только далеко больно смазывать. Нижневартовск. Выговорить трудно, не то что доехать».
«Какой Нижневартовск, чудо! Анька уж год как вернулась! С мужем у неё полные кранты. Даже говорить о нем не хочет. Вот недавно с ней виделся. В больницу ко мне приходила. Обо всех расспросила...»
«Ужель и обо мне?»
«Вот как раз о тебе — ни слова».
«Сие значит, — Воронин усмехнулся, — недостоин внимания».
«Дурак. Сие значит, что только тобой она и интересовалась. А кем еще? Мной что ли? Ждала, когда я сам скажу. А я не сказал. Из вредности. Так что зайди. Адрес скажу. А давай лучше так: я её на рождение приглашу, а?! Как говорится, десять лет спустя...»
***
На день рождения Коли Шатунова Воронин решил прийти с небольшим, элегантным опозданием. Чтобы не возомнила бог весть чего. Финт, однако, ушёл впустую, Анна не пришла. Шатунов почему-то пришёл в ярость. Он даже позвонил ей домой, но старшая сестра, у которой Анна в ту пору жила, холодно сообщила, что Аня плохо себя чувствует, просила не будить, а лично ему. Шатунову, желает крепкого здоровья и большого человеческого счастья.
— Всё! — вдруг вновь разъярился Шатунов. — Одевайся! Едем.
— Куда это? — забеспокоился Воронин.
— К Ковалёвой, куда!
Воронин, при всей дикости предложения, решил не отнекиваться, боясь, что Шатунов возьмёт и передумает. Они стали шумно, путаясь в рукавах и пререкаясь, одеваться в прихожей. На гвалт вышла Галина, успевшая уже отойти ко сну. Когда она поняла, что удерживать мужа бесполезно, напросилась идти с ними и даже согласилась палить обоим для храбрости по соточке.
Дверь им открыла Лариса, сестра Анны. Первым делом гневно поинтересовалась, знают ли они, сколько времени. Выяснилось, что время вовсе не полдесятого, как простодушно полагал Шатунов, а без двадцати два. Однако Шатунов гордо сказал, что всё понимает. Но бывают в жизни ситуации... Вышел муж Ларисы, солидный, полный мужчина, похожий на крупного грызуна, и сообщил, что уже вызвал милицию. Воронин все это время с достоинством молчал, лишь изредка кивая, со всеми соглашаясь.
В конце концов вышла Анна. Взлохмаченная, в длинном, с чужого плеча халате, накинутом прямо на ночную рубашку и в шлёпанцах на босу ногу. Увидев её, Воронин потерял дар речи и способность трезво мыслить. Понимал он лишь одно: ежели существует на свете счастье, то оно вот такое, и больше никакое.
— Вы тут с ума сошли, что за базар в конце концов! — начала было Анна хриплым не то со сна, не то от ангины голосом, но, увидев Павла Воронина, осеклась и вдруг неожиданно заплакала и бросилась ему на шею. Вот так.
Когда Воронин пришёл в себя, никого на площадке не было. Ни Шатунова, ни Галины, ни сестры, ни милиции. Только он и Анна.
А потом они были счастливы...
ПРОЩАНИЕ
Дом с утра начал заполняться людьми. Знакомыми, незнакомыми Все они куда-то звонили, договаривались, курили в ванной. Они менялись: исчезали одни, появлялись другие, я вскоре перестал их различать. Родственники и друзья жались по углам, поглядывая на незнакомцев с настороженным уважением.
Ко мне все они относились как к больному ребёнку, с осторожной и слегка раздражённой предупредительностью. Будто я всем им мешал делать несложное, несуетное дело, которое они не то чтобы любили, но знали в нем толк. Меня же следовало, по их мнению, всячески поддерживать, терпеливо выслушивать, не воспринимая всерьез. Порой казалось, что если бы я сию минуту куда-то вдруг бесследно пропал, никто бы этого не заметил, и шло бы все исправно, своим чередом без меня.
Над всем этим мельтешением незримо, но весомо парило имя некоего Виктора Михайловича. Оно даже и произносилось почти благоговейно, с оглядкой. Сам он не появлялся, но, как можно было судить, всё держал под контролем. Этот контроль, всеобъемлющий и обильный, ощущался во всем — в том, как быстро и без помех оформлялись какие-то документы, мне лишь без слов протягивали бланки, указывая, где именно надлежит поставить подпись; потому, как своевременно появлялись скромные, незнакомые люди, которые с лёгкостью решали надлежащие проблемы, потому, как отлажено, по мановению руки возникало все, что необходимо, и столь же быстро и своевременно пропадало. И даже мелодийки их сотовых телефонов стрекотали как будто по мановению невидимой дирижёрской палочки.
Кто он такой, этот Виктор Михайлович, оставалось лишь смутно догадываться. Имя было знакомое, даже не само по себе имя, а именно эта суетливая, подобострастная оправа вокруг него.
И ещё — всюду вездесущий, быстрокрылый Вадим, он неусыпно ходил за мною по пятам, участливо склонившись и придерживая за локоть, бормотал какой-то вздор, вроде «жизнь продолжается, надо быть стойким...», и опять же делал кому-то знаки. Однако именно потому, как важно и значительно он все это делал, было видно, что от него здесь ничто не зависит.
Он же, Вадим, открыл траурный митинг возле подъезда, предварительно оповестив кому и что надлежит говорить, «и вообще — чтоб все по-быстрому...». Он отдавал распоряжение, кому в какую машину садиться, кому идти, а кому не идти на поминальное застолье в кафе.
Впрочем, был момент, когда Вадим вдруг разом переменился, глаза его будто ороговели, вывалились из орбит, он издал сиплый горловой возглас и замер, словно в коротком параличе. И тогда я увидел в прихожей сутулого темноволосого человека, которого приметил еще на улице, возле подъезда. Там он стоял в стороне от всех, будто посторонний, ясно было, однако, что никакой он не посторонний, что почти все из присутствующих его знают, но по какой-то причине предпочитают не замечать и даже обходить стороной. Он не силился придать лицу гримасу скорби, лишь напряжённое равнодушие. Теперь же он стоял спиной к входной двери, не сводя с нас обоих прищуренного взгляда. Из уголка презрительно надломленного рта криво торчала дымящаяся сигаретка.
— Э-э, мы тут, Фаик Гаджиевич ... — начал было Вадим. Почему-то стало не по себе.
— А вы бы не курили тут, — тихо сказал я, почему-то глядя в сторону. И тотчас добавил умиротворяюще: — неудобно, по-моему.
— Понял, отец, — отрывисто ответил он с каким-то лёгким инородным акцентом и через его плечо протянул окурок Вадиму, — возьми, дорогой, выброси, куда скажут. Потом спустились на улицу. Пара минут.
Еще раз смерил обоих нас взглядом и вышел, не обернувшись.
— Это еще кто? — спросил я Вадима.
Тот вначале покосился на меня с беспокойством и недоумением, затем принялся что-то путано объяснять полушёпотом, стараясь отвести в сторону от людей, то и дело упоминая при этом того же Виктора Михайловича. При этом нелепо перебирал пальцами забытый, видимо, от волнения чужой чадящий окурок. Я, однако, его уже не слушал, ибо без того вспомнил. И Фаика Гаджиевича, и самого Виктора Михайловича ...
Было это летом, год с небольшим тому назад. Еще за пару недель в доме постоянно и напряжённо упоминался юбилей некоего Бурьяна. Причём упоминался как нечто крайне важное, но неприятное, тягостное. То, что надобно просто переждать, перетерпеть да и жить дальше.
«Что за Бурьян? — поинтересовался я. — Имя-то какое — Бурьян».
«Это не имя, — с досадой ответила Анна. — Зовут его Виктор Михайлович. Фамилия Гурьянов».
«Большой человек, надо полагать?»
«Ну да. Что-то вроде».
А за день до юбилея было объявлено, что приглашены не все сотрудники банка, а лишь избранная часть, зато — с мужьями-жёнами. Анна в том числе. В новый загородный дом. Идти не хотелось и я поначалу гордо отказался. «А я хочу? — вздохнула Анна. — Я еще больше не хочу. Тебе бы так не хотеть, как я не хочу. И тебя тащить не хочу, чего тебе там делать. Но вот никак нельзя. Неудобно, понимаешь?»...
***
Автобусная остановка называлась «Лесопарк». Сразу после остановки — извилистая, наезженная тропа мимо магазина с не то шутливой, не то серьёзной надписью «Сельхозмаркет», мимо полуразрушенной, заросшей бурьяном пилорамы, мимо старой, щербатой церкви с желтеющим каркасом нового, возводимого купола.
Идти было недалеко, однако все просто изнывали от радостного нетерпения. «Сразу предупреждаю, — будет нечто!» — то и дело вполголоса выкрикивал, жестикулируя, полный, розовощёкий человек с забавно завитым спиралевидным чубчиком. Это и был Вадим. От него весело отмахивались, но он был неутомим и неугомонен.
Пришли наконец. Трёхэтажный дом модного асимметричного покроя из розового, литого кирпича с томно тонированными аркообразными окнами. На лужайке возле дома — уже накрытые столы. Фруктово-овощной рай с хрустально-изумрудными прожилками, который только благоговейно озирать... Хозяин, Виктор Михайлович, низкоросл, коренаст, в ослепительно белой рубашке с расстёгнутым воротом — красный треугольник груди в рыжих кудряшках. На бугристом носу нелепые черные раскосые очки. Говорит тяжело, топорно, надсадно гнусавя, будто через силу: «Я рад. У-у, сколько ж вас! Располагайтесь. Угощайтесь...»
Потекли первые тосты. Девочки в крахмально белом с монашеской молчаливостью наполняли и разносили бокалы. Вездесущий Вадим порхал, как эльф, и мимикой, жестами указывал, кому и что надлежит говорить. «Нет, каково, а? — не уставал восхищаться он между делом. — А попробуйте вот это», — он кивнул на резную деревянную тарелочку с розовыми, густо залитыми майонезом колобочками.— «Да нет вы попробуйте! — капризно воскликнул он, увидев, что я ограничился кивком. Попробовал. Какой-то впрямь необычный мясо-грибо-овощной вкус.
«А?! — Вадим радостно захохотал и тоже стремительно умял колобочек. — Уж я сколько Виктор Михалыча просил: скажите, говорю рецепт. Ведь вот, не говорит, — причитал он, чмокая и облизывая кончики пальцев. — Но зато уж хлебосолен... Так. Минуточку. — Он вновь спохватился, вспорхнул, торопливо и туго дожёвывая, и по-бабьи всплеснул руками: — А вот я смотрю, тут давно слово просит Татьяна Станиславовна... Только покороче, умоляю, — вполголоса простонал он, скосив на напряжённо застывшую Татьяну Станиславовну покрасневшие раздражённые глаза, — Время, понимаете? Время!»
Татьяна Станиславовна, мучительно пережевав, затараторила быстро, с сипловатой одышкой, опасливо косясь на Вадима. Однако он все равно прервал её едва ли не на полуслове ликующим воплем и аплодисментами. «Ну а теперь, дирижёрский взмах, — завершающий тост! — вновь заверещал он, едва дождавшись, когда вновь заполнят бокалы. — И скажет его... — он выждал глуповато-торжественную паузу, — Анна Владимировна! Анечка, просим вас!» Анна округлила глаза и стала что-то говорить, тряся головой и разводя руками. «Аня, ты с ума сошла? — Вадик глянул на неё свирепо и умоляюще. Быстро — ну!» Он что-то забормотал, похоже, матерное, Анна страдальчески сморщилась, почему-то виновато глянула на меня, поправила по обыкновению мизинцем очки на переносице, неловко схватила бокал и заговорила высоким, дёргающимся голосом что-то про целеустремлённость и верность долгу, целостность натуры... Хозяин её не слушал, да и вообще никто никого не слушал. Услышав про завершение трапезы, счастливые гости возжелали распробовать, что еще не распробовано, откупорить, что не откупорено. Вадим взирал на суету с гордым презрением приближенного...
Потом мы шли обратно, тою же дорогой, только по-хмельному радужной, мимо пилорамы, мимо магазина, церкви — «На реставрацию храма деньги Виктор Михалыч дал. Истоки наши, знаете», — вдохновенно пел Вадим где-то поодаль. Все натурально были счастливы. То, как их столь незатейливо выставили вон, не удручало. Беспардонность придавала даже некоторый шарм виновнику торжества. Да уж вот, такой он у нас, Виктор Михалыч-то. «Ну сам посуди, — с жаром бубнил кому- то некий Костя, по всеобщему мнению, интеллектуал и острослов, — с нами до вечера вошкаться, что ли? Говорят, мэр подъедет поздравлять. Мэр!..» Он даже засмеялся, такой дикой показалась ему ситуация: мэр приехал, а тут мы, понимаешь, сидим...
«Ну вот все и кончилось, — вполголоса говорила непонятно кому Анна. — Гос-споди, неужели все кончилось...»
«Отменная у вас супруга, Павел Валерьевич, — жарко шепнул мне подоспевший Вадим. Он непонятно когда успел хорошо нализаться. Должно быть, на кухне налили. — Просто- таки замечательная. Как хорошо сказала, а? Вы ведь слышали! А остальные что — мямлили, через пень колода. Бу-бу! А у неё — ёмко все, внятно. Блеск! Все ж таки потомственная интеллигенция. Это же всегда чувствуется»...
«Господи, вот все и кончилось», — как-то отрешённо продолжала бормотать под нос Анна.
***
«Вот же ить, молоденька какая. Неужто сама убилась-то? — бормотала, ни на кого не глядя, маленькая, тёмная старушка, сгорбившаяся на лавочке, у подъезда, на расползающейся от сырости газетке. — А? Вот и я говорю, мил человек, человек от роду сам себя не убивает. Не может он сам себя убить-то. Бог не велит. Бесы его убивают, бесы! Семеро их, бесов. Один бес манит, другой пугает, третий утешает, четвёртый жалобит, пятый срамит, шестой задорит, седьмой в темень толкает. Один появится, так, стало быть и другие шестеро придут, они один без другого не ходят. Первый-то — голос хрипкий да тихонький, вот как хрипкий голос услышишь внутри себя, надо тотчас же к солнышку поворотиться да и сказать: «Царица наша небесная, голубочка белокрылая, оборони от нечисти бесовской и темной напасти, как от пёсьей пасти...»
Я не успел дослушать до конца, ощутил вдруг под ногами хлипкую качающуюся пустоту, и чтобы вовсе не провалиться туда, прислонился спиной к влажному корявому стволу дерева. Стало вдруг удивительно спокойно и тихо, и чтобы не спугнуть эту тишину, я прикрыл глаза.
— Пашка, да ты что! — Я почувствовал, что кто-то крепко встряхнул за плечо. — Открыл глаза и увидел перед собой Колю Шатунова, тот стоял, широко расставив ноги, глядя в глаза с недоумением и опаской.
— Э, да ты... — протянул Шатунов, увидев, как я крепко зажмурился и встряхнул головой, сгоняя с себя оцепенение и глухой шум в голове. — Да ты вмазал, что ли? А? Пока не нужно бы, Паша. Давай, я попрошу, чтоб чайку, что ли, тебе. Бабы сейчас живо соорудят.
— Да ты что, какой тебе вмазал! — яростно зашипела Галина, его жена. — Тебе бы только вмазать! Не видишь — плохо человеку.
Но я уже сориентировался, неопределённо улыбнувшись, с усилием оттолкнулся спиною от дерева, отвёл кого-то рукой и отошёл.
Траурный митинг подходил к концу. Тишина была густая и грузная. «Анюточка наша, ненаглядная ты наша», — надрывно заворковал какой-то потерявшийся женский голосок.
«Так, ну айда, грузим», —скомандовал кто-то, опять же, кажется, Вадим.
«Господи, вот все и кончилось», — вспомнилось вдруг.
***
Потом я долго не мог собраться с мыслями. Происходящее ускользало от меня, просачивалось, как вода сквозь пальцы. Подумалось вдруг: «неужели мне все равно? Наверное, все смотрят на меня и думают: то ли он абсолютно равнодушен, то ли уже спятил... И действительно, постоянно приковывали внимание какие-то пустяки. Чья-то обвислая шляпа. Татуировка на чьём-то запястье — рука, держащая факел, и что на этом факеле написано. Так и не успел прочесть... Откуда-то, словно из промозглого тумана, возникла уродливая тележка, сваренная из прутьев, вероятно, какой-нибудь забытой могилы. С тяжким стуком на неё положили гроб. С нарочитым уханьем впряглись сразу несколько мужчин. Тележка с пронзительным скрипом покатилась по заваленной лиственным мусором аллейке. Я тоже тянул её за холодный, мокрый поручень, потом вдруг убедился, что она катится и без меня, отошёл в сторону.
Процессия замерла близ выросшей из-под земли горы глины. Глина была обесцвеченная, мёртвая, еще более мерзкая из-за начавшегося мелкого дождя.
Все дружно обступили чёрную прямоугольную дыру в глине. «Теперь все придётся опять начинать сначала...» Не сразу понял, что это ко мне. Что начинать сначала, простите? Ах да, жизнь! Кивнул. Почти сразу узнал его. Это был полный, рослый человек с инфернальной остроконечной бородкой. У него было смешное прозвище «Батишкаф». Почему-то нестерпимо захотелось сказать ему что-нибудь грубое. Ладно, сдержался, было бы неловко. Да нет, начать, оно, конечно, можно. Как вот только? Что у вас еще в запаснике? Что жизнь полосата, как зебра? Вот! Как же я забыл! То есть, значит, у меня сейчас как бы черная полоса. А потом она как-то (как?!!) перетечёт в белую. В ослепительно, стерильно белую! И как же там, в этой начатой сначала белоснежной жизни уместится Анна и эта аккуратная прямоугольная дыра в глине, и бурые пятна крови на свитере? И вообще, та, предыдущая «белая» жизнь, с Анной? Как?! Не будет ничего? Амнезия? Деликатная форма идиотизма.
Тогда, двадцать один год назад, я нашёл свою иголку в стоге сена. И теперь суждено мне продолжать жить в мире, и не будет в этом мире ничего, что не было бы связано с Анной. Этот мир должен был бы исчезнуть вместе с ней, но почему-то не исчез, продолжает существовать огромным, зияющим кубом пустоты, зеркалом, в котором не отражается ничего. Мир будет продолжаться, как миражный свет исчезнувших, угасших, истлевших звёзд...
***
«Прощаемся, —скомандовал Батишкаф. — Сначала родственники».
Я как-то неловко, перепачкав колени в этом бледно-рыжем месиве, взял в руки расползающуюся, кисельную горсть и бросил в чёрный провал. Глухой отзвук заставил вздрогнуть. Почему-то подумалось: а как это слышится изнутри? От этой мысли качнуло в сторону. Пришлось схватиться за ограду чужой могилы.
Кто-то, оказалось, Колька Шатунов, цепко схватил меня за локоть, куда-то повёл, усадил на какую-то скамейку.
«Т-ты чего улыбаешься? — строго и почему-то заикаясь, спросил он. — Ты мне это брось! На-ка вот».
Он сунул мне прямо в зубы горлышко плоской чекушки.
Я послушно кивнул, взял чекушку, как дитя соску, и сделал три-четыре глубоких и шумных глотка. И тут же, будто из-под земли, выросла Галина.
«Ты чего вытворяешь, — яростно зашипела она на мужа, — совсем башку потерял! Людей постыдись».
«Галь, не лезла бы, а? — Шатунов смерил супругу презрительным взглядом. — Нужно ему сейчас. Неужто понять не можешь. Иди-ка вообще отсюда. Дома поговорим».
Галина неожиданно замолчала, как-то жалко кивнула, затем вдруг присела на корточки, шумно всхлипнула, погладила меня по щеке и отошла в сторону и отвернулась. Плечи её затряслись.
«Посиди пока здесь. Там без нас справятся. Я с кладбищенскими все уладил. На-ка еще...»
***
После похорон на трёх автобусах все поехали в «Кассиопею», стеклобетонное сооружение, бывший Дом политпроса. В Зале торжеств, именно так помещение называлось, были уже накрыты столы...
Помянули стоя, помянули сидя. Вездесущий Вадим, вдруг оборвав чеканный поминальный тост, заговорил задыхающимся ямбом: «Прощай наш друг, тебя мы не забудем. Твоё тепло согреет нас, любя. И мы всегда себя сурово судим, что не смогли мы сохранить тебя». Это произвело впечатление. Кто-то растроганно высморкался.
Когда поминки вошли в конечную стадию, то есть когда неотвратимо и тяжеловесно возобладало пьяное оживление, когда люди перестали считать себя обязанными сохранять скорбное выражение лица, и лишь ненадолго натягивали его на лица при упоминании Анны, я осторожно подошёл к Регине и сказал, что ухожу. Регина поначалу не поняла, она уже давно вполголоса говорила с каким-то совершенно незнакомым человеком, который, увидев меня, глянул исподлобья и замолчал.
— То есть как? — Регина округлила глаза. — Погоди, нехорошо как-то получится. Ты посиди еще. Ну чуть-чуть. Разойдутся они скоро. Вон мужики уже кучковаться начали, соображают. Господи, жизнь продолжается... Паша, нельзя уходить сейчас. Я все понимаю, но...
— Ну... Ну скажи, мол, плохо ему стало.
— Да плюнь три раза. Паш, — Регина махнула рукой. — А, ладно, иди. Я что-нибудь придумаю. Только ты домой иди, ладно? Если хочешь, я заеду сегодня вечером. Не надо? Ну в другой раз. Ты, Паша, не пропадай, пожалуйста, а? Нельзя тебе сейчас пропадать.
Я кивнул и вышел. Шёл быстро, даже как-то чеканно, словно было куда торопиться. Так и прошагал без единой мысли в голове несколько кварталов. Автобусную остановку проскочил, возвращаться назад не хотелось. Вот и помянули Анну Владимировну! Я вспомнил, что за все время поминок так ни разу не подумал о ней. Словно она была где-то неподалеку, а все происходящее с нею никак напрямую не связано... И тогда я неожиданно для себя решил, что сейчас, когда никого нет, когда он свободен от всех этих обрядов, и впрямь можно было бы и помянуть.
***
Когда-то давно здесь было детское кафе под названием «Весёлый Чиполлино». Сюда в школьные каникулы строем водили детей, кормили примерно тем же, чем в школьных столовых, только под истошные звуки детских песенок из динамиков. Столь же истошно кричали попугаи, но не те, тощие, светло-зелёные и печальные, что сидели в клетках, а опять же из динамиков. На стенах были грубо намалёваны изображения весёлого луковичного человечка в компании с неизбывными Чебурашками и Крокодилами. Когда времена детских кафе канули, его пробовали переоборудовать. Арендовал его местный Союз художников. Мыслилось переделать заведение в этакий уголок старой Италии с душераздирающими аккордеонами, пиццей, кислыми винами и Тото Кутуньо. Кое-что успели сделать, но на кафе уже положило глаз какое-то непонятное спортивное общество, художников быстро и невежливо выставили прочь. Кафе заполнилось коренастыми парнями с плоскими глазами и неторопливо-утробными разговорами. Потом сгинули и они, кафе стало приходить в упадок, псевдофлорентийская мишура давно облезла, и на стенах вновь стали бледно проглядывать опостылевшие Чебурашки.
***
Взял полграфинчика водки, два бутерброда, стакан сока. Народу мало, время рабочее. Не торопясь налил в пластиковую одноразовую рюмочку, не торопясь, основательно поднял. «Ну что же, — сказал я сам себе вслух, правда, глухо, еле слышно и низко опустив голову, — вот мы и попрощались, Анечка. Да. Пусть те люди, чужие, ненужные, сидят там, в зале торжеств. Пусть себе. А мы тут с тобой одни...»
И вновь потекли слова, какие-то деревянные, сучковатые, чужие, они выползали помимо воли, образовывали некое дурное нагромождение, столь же фальшивое, как и то, что в зале торжеств. Бред продолжался, ничего изменить нельзя. Одиночество — не панацея. Я зло встряхнул головой и, заранее напряжённо сморщившись, выпил. Замер, словно прислушиваясь. Взял бутерброд, но как-то неловко, он почему-то выпал из рук, звучно шлёпнулся на пол. За соседним столиком кто-то обернулся с живым интересом. Я жалко, курьёзно улыбнулся. Это показалось уже из рук вон диким и обидным. Внезапно почувствовал, что сейчас, именно сейчас запла́чу, что все эти три дня, все эти хлопоты, справки, протоколы, встречи, сырая эта глина, зал этот торжеств сейчас, сию же минуту нагрянут разом и задавят меня всей тяжестью. Я раскрыл рот, широко вытаращил глаза, как делал в детстве, чтоб не заплакать.
Отпустило. Зря сюда зашёл. Да еще взял так много. Уйти, что ли?..
Чипполино
— Простите, потревожу.
Да уж потревожил. Вот только тебя тут недоставало. Только тебя.
— Вы меня, наверное, не узнали...
Да нет, отчего же, узнал. Был на поминках. Тот самый, что беседовал с Региной. Воронин даже подумал, что это очередной её ухажёр. В её вкусе. Однако сел с самого начала не рядом с ней, а где-то у выхода. Да и говорила она с ним как-то не по-свойски, нервно. Коротко стриженый нордический блондин. Лицо, как говорят, волевое. Правда, уши торчком и все время красные. Где-то они, как будто, и раньше встречались...
— Узнал. Однако, знаете, я сейчас не расположен...
— Понимаю. И я не расположен. Позвольте, однако, представиться. Чепик Анатолий Никитич.. Бывший муж Анны. Вы наверняка обо мне слышали.
А, вон как. Однако, увы, почти и не слышал. Даже фамилию. Анна тогда фамилию не меняла. Она ни в какую не желала о нем говорить. Так и сказала: этих двух лет не было. Где-то случайно, пару раз — Толя. А кто Толя, что Толя — ни слова. Да он и не настаивал. Прошлое должно быть в прошлом. И уж коли тогда он о нем ничего знать не хотел, то уж сейчас-то тем более.
— Вы что же, вышли сразу вслед за мной, да?
Прозвучало резковато. Однако разговор этот все равно надо заканчивать. Не ко времени. Да и не будет никогда ко времени.
— Почти.
— И зачем?
— Хотелось поговорить.
— Говорите, только короче.
— Может, вначале помянем?
— Спасибо, я уже.
— Как угодно. Тогда... может, покурим? Выйдем на улицу. Пойдём.
Это «пойдём» было коротким, властным и окончательным. Чепик двинулся к выходу, не оборачиваясь, в полной уверенности, что Воронин идёт за ним. Чепик шёл все так же спокойно, не оборачиваясь. Как-то уж очень спокойно. Так спокойно ведут себя люди, на что-то решившиеся. Прошёл метров десять, замер у низенькой лавочки рядом с табачным киоском и как-то деревянно присел. «Угощайтесь». Сигареты — не успел заметить, какие. Видно, что дорогие. Да он вообще упакован что надо. Скромненько и дорого, без сальной позолоты. Закурил. Забытый запах на миг отбросил его назад, в прошлое. Он перевёл дух, хотел этак солидно произнести, мол, я вас слушаю. Но не успел.
— Я не надолго. Просто пару вопросов. Даже и не пару. Даже просто один, — Чепик говорил медленно, нервно перебирая в руках так и не раскуренную сигарету. — Так вот: отчего умерла Анна?
Вот тогда Воронин и понял, что именно этот вопрос, который колючим воплем рвался наружу в ту ночь, в больничном коридоре и который потом застыл в нем корявой ледяною фигуркой. Именно он сидел в нем, глухо, неуклюже ворочался и требовал разрешения, превращая в бессмыслицу и ложь все прочее, связанное с Анной.
— Она... Вы разве не знаете? Мне даже странно...
— Странно. Ты что, — он вдруг резко и яростно перешёл на «ты», — в самом деле поверил, что Анька могла? Вот так — на подоконник, и — фюить! — Чепик описал пальцем дугу, сунул сигарету в рот и снова вытащил.
— Трудно, — выдавил из себя Воронин, не зная, куда девать руки, — трудно в это поверить.
— Ну ладно хоть так, — Чепик зло усмехнулся, наконец закурил и шумно, словно захлёбываясь, затянулся. — Теперь слушай. Я ведь сюда приехал не на похороны. Даже наоборот. Мне Анька позвонила недели две назад. Отыскала через Регину. Анька сказала: приезжай, пожалуйста, срочно, нужна помощь. Это при том, как мы с ней расстались. А расстались мы с ней — хуже не придумаешь. И уж если потом она говорит: приезжай, нужна помощь, значит, дела такие, что — все, хуже не бывает. Вот так.
Чепик далеко отщёлкнул окурок, и тут же полез снова за сигаретой.
— Ну я приехал. Встретились опять же у Регины... Из того, что я понял: что-то у неё приключилось с боссом. То ли услышала что-то лишнее (ну совсем лишнее, бывает, знаешь, такое лишнее), то ли влезла во что-то по дурости... Ну не знаю, не сказала.
— Погодите, с каким боссом? С Олегом Эдуардовичем?..
— Да каким Эдуардовичем! — Чепик презрительно сплюнул. — Какой босс! Манда с ушами, вот он кто. Босс у них совсем другой. Слыхал, наверное, про Гурьянова Виктора Михайловича? Вот он у них и есть натуральный босс. Такой я Аньку сроду не видел. Трясло се всю. Не столько за себя, говорит, боюсь, сколько за... ну, в общем, за тебя, родной. Слушаешь дальше? Ну, поначалу дело мне трудным не показалось. Навёл справочки. Есть у меня каналы. Гурьянов этот, кличут его «Бурьян», тоже не большая шишка. А в смысле авторитета — вообще нуль. У него судимость-то одна, и то условно. Гондон штопаный. Все эти «джипы» коттеджи-маттеджи, — всё с чужого плеча. В общем, устроили нам встречку. Уж по одному тому, как быстро её устроили, было видно, что Бурьян — пустышка, замухрай. Пришёл не один, с телохранителем, Фаиком Мусакаевым. Этот Мусакаев, балкарец. В Афгане повоевал, после в Чечне, только уж с другой стороны. В Чечне, однако, сильно не задержался, получил пулю в бедро и разлюбил дикую свободу.
Нормальная была встречка, я о себе порассказал, кто таков, что делаю, с кем здоровкаюсь. Потом с просьбишкой: жена, говорю, бывшая, хорошая баба, но дура, как все бабы. Отпускаете её с миром, а уж после увезу её я в тундру, и не услышите вы о ней больше ни слова. Они переглядываются. После Фаик отошёл. Посоветоваться. Вернулся, шепнул что-то на ухо Бурьяну. Тот кивнул и говорит: «В общем так: пусть баба твоя сегодня мне позвонит на сотовый и ставит свечку». Потом еще в кабаке посидели вчетвером. «Акапулько». Они, я и Анна. Шутки шутили, чокались. А на следующий день мне с утра Регинка звонит. Анька, говорит, убилась. Я сперва не поверил. Собрался к Бурьяну ехать, а он сам ко мне. То есть, не он, а Фаик. Да не один, с приятелем, тоже из чёрных. Приятель, правда, в коридорчике стоял, дожидался. Говорил Фаик коротко без кавказских понтов. Говорит: обмана не было, тогда в самом деле, сказали: отпустить с миром. А на следующий день совсем другое — гасить. Мы, говорит, всё, что могли, сделали. Потому — уезжай, говорит, отсюда, чем скорее, тем лучше. Для твоей пользы говорю. А про бабу забудь, говорит, считай молнией её убило. Вот такой разговор. А вчера мне в номер Бурьян звонил. Самолично. Уже другой совсем, спокойный, борзый, как конь. А чего, говорит, ты домой не едешь? Может, шмотки долго собирать, так мы поможем. Стращает меня, хрен овечий. Я ему говорю, мне перед тобой не отчитываться, будет надо, уеду, тебя не спрошу.
— Кто же это сделал? — спросил наконец Воронин, поразившись, как деловито и просто прозвучал вопрос. — Аню — кто?
— Кто сделал? Да они оба и сделали. Зазвали в офис. Это сразу после «Акапулько». Мол, для разговора, мол, дело чтобы закрыть. Она их там ждала. А как Фаика увидела, все, видать, поняла, да поздно... В общем, Бурьян окно открывал, а Фаик... Зачем я тебе все это говорю? А чтоб знал. Я на поминках-то сидел и смотрел. Из тех, кто там был, считай, больше половины знали, что никакой это не несчастный случай. А каждый третий знал, чьих рук дело. Зато слова-то какие! «Прощай, Анечка, спи спокойно!» Я в это дело лезть не буду, но и на молчанку не подписывался. А ты... Знаешь, лучше бы тебе уехать.
— Уехать? Вы... Ты думаешь...
— А я ничего не думаю. Думать — твоя забота. Но когда сегодня придёшь домой, посмотри все внимательно. Не изменилось ли что. Если почуешь, что в доме кто-то был, делай выводы. Тут дела серьёзные.
Чепик встал, неторопливо, исподлобья огляделся по сторонам.
— Пойду я. Прощай, что ли, Воронин.
Он повернулся и быстро зашагал по дорожке, ведущей к кафе, шёл прямо, твёрдо, едва заметно ссутулившись. Воронин в немом оцепенении смотрел ему вслед, не веря, что разговор этот, внезапный, оглушающий, так вот и закончился. И действительно, Чепик остановился, постоял, словно застыв, затем резко обернулся и торопливо, будто боясь передумать, пошёл обратно.
— На-ка, держи, — он хмуро протянул Воронину маленький, невесомый свёрточек, — честно говоря, не хотел отдавать. Был соблазн самому прочесть.
— Это что? — Воронин почему-то испуганно отдёрнул руку.
— Письмо.
— Письмо? Какое еще письмо.
— От Анны.
— От... Анны?! — Воронин беспомощно затряс головой. — Ты...
— Письмо от Анны! — Чепик повторил раздражённо, как урок для ученика-тугодума. — Анна мне его дала... в тот самый день. Сказала: если что со мной случится, отдашь Павлу. Только не сразу. Пусть немного времени пройдёт. Всё обойдётся, вернёшь мне или выбросишь. Так она сказала. Ну вот, теперь все. Давай, прощай, Павел Валерьевич.
***
{Пашенька, дорогой. Если ты читаешь это, значит это случилось. Знай, Паша, я сама во всем виновата. Господи, как тяжело писать, сидя живой и здоровой, и знать, что когда это прочтут, меня не будет. Ну вот просто не будет и все, как будто я и не рождалась вовсе, и все, что было, — было без меня. Все останется на месте, а меня — нет.
Ну вот, перечитала, хотела порвать, потому что я совсем иначе хотела, а после передумала — если порву, вообще ничего не напишу.
Паша, пообещай мне, то есть теперь уже не мне, а той, кого ты помнишь, что не будешь пытаться выяснить, что со мной случилось. Пройдёт время, и не очень много, я думаю, все узнается. Ты узнаешь, наверное, больше, чем я знаю сейчас сама. Это правда, я сейчас в какой-то тьме, и не знаю, что происходит, знаю, что нечто страшное. Тебе сейчас очень тяжело, больно, но именно поэтому, ради меня, пообещай.
Еще раз повторю: я во всем виновата сама. Я хотела поправить эту жизнь, а сделала то, чего не нужно было делать ни в коем случае. Ты скажешь, что в нашей жизни и так все было нормально. Да, все было нормально, и мы были, — помнишь, кто-то сказал, — образцовой парой, и это была почти правда. Почти. И все же мне хотелось что-то поправить. Мы с тобой совсем разные люди, ты так и не узнал, до какой степени. Я и сама это недавно поняла.
Что у нас было впереди? Заново отстроенная дачная каморка, подержанная малолитражка, поездка в какую-нибудь Турцию, серебряная свадьба, золотая свадьба и тихое угасание? Я пишу какие-то гадкие вещи, но что делать. Детей у нас с тобой не было, и в этом виновата я, ты даже не представляешь, как виновата. Знаешь, мне было иногда просто жутко, выть хотелось, как жутко. Да я и выла иногда. Ты, кстати, даже не заметил, что я последнее время попивала. Или заметил?
Наверное, тебе трудно понять этот кошмар, когда едва совершеннолетние девчонки, которые еще год назад взирали на тебя с застенчивым обожанием, сегодня смотрят с брезгливым участием и едва здороваются. Те, кому по разным причинам, все равно по каким, — удалось. Я устала от гордого презрения, я устала твердить себе и другим, что они лишь удачливые шлюшки, что если бы я захотела... Ты мог на все это смотреть спокойно, философски, а я — нет. Я хуже тебя, я тщеславна и глупа, я очень долго ждала, когда все как-то устроится само собой, меня, конечно, заметят, оценят, я наконец заполучу должное. Пока не поняла наконец: нет, ничего не будет. Никогда. Столько времени было потеряно. Поэтому я не колебалась, когда мне представилась возможность сделать одно очень опасное дело. То есть, колебалась, конечно. Трусила отчаянно, но в самой глубине души знала точно: я соглашусь. Все могло быть удачно. Так мне казалось. Но не вышло. Виновата я одна. Получается, что так. Паша, я умоляю, прими все как есть. Ты ничего не сможешь изменить. Пообещай, что не станешь мне перечить. Хватит того, что я сделала тебя несчастным, причинила тебе боль. Прости меня, Паша.
АННА.}





