СЕПТА
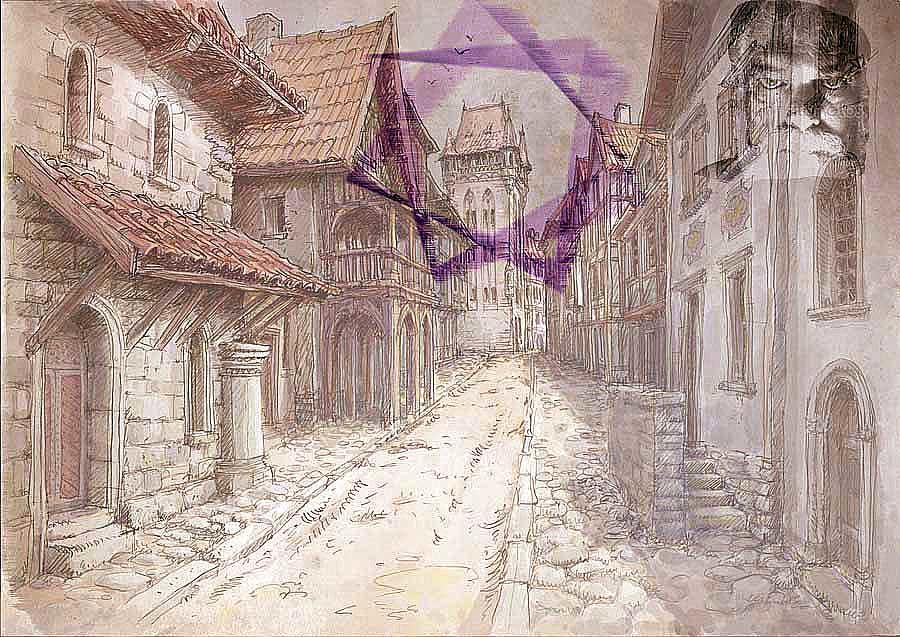
[Глава из повести "ГРАВЁР"]
Был поздний вечер, Гравёр закрыл ящики стола и собрался было отвязывать Каппу (он её привязывал всегда, дабы она не пугала заказчиков), когда дверь содрогнулась от толчка такого сильного, что, казалось, едва не слетела с петель. Каппа, дремавшая возле кладовки, вскочила и залилась лаем. Гравёр, сунув на всякий случай за пояс отточенное долото, быстро и резко распахнул дверь. Он так делал всегда, когда стучались поздним вечером.
Перед ним стоял человек в низко нахлобученной шляпе, лицо его словно маской, было укрытой густой рыжей бородой. Это был Уго Стерн, его второй или третий заказчик. Три года назад он, собираясь на войну, принёс свой тяжёлый боевой шлем-капеллину и заказал надпись, опоясывающую выщербленный фамильный герб: «С нами Господь, Богородица и Святая Хильда».
Говорили про него разное. Сначала, что он погиб в первой же схватке с туземцами, потом, что он не погиб вовсе, попал в плен и отпущен был за выкуп. Потом говорили, что он был приговорён к повешенью своими же за какой-то неведомый проступок, однако был пощажён и отправлен то ли на каторгу, то ли в какую-то якобы «роту висельников», уцелеть в которой практически было немыслимо, а он однако же уцелел.
Уго постоял на пороге, затем прошёл в комнату, обойдя Гравёра, как некое незначительное препятствие.
— Где Норман? — спросил он каким-то скрипучим, ржавым клёкотом.
— Хозяин, верно, отдыхает после ужина, — ответил Гравёр, не сводя с посетителя настороженного взгляда. — Прикажете проводить?
Уго пожал плечами, достал грубую промасленную холстину и развернул. Это был кинжал. Затем он медленно, точно нехотя вынул его из ножен морёного дуба с медною окантовкой. Гравёр замер, увидев его.
Лезвие было необычного серо-голубого оттенка с правильным, непонятно как сделанным узором — судя по всему, ветвь трилистника, — и было отточено так остро, что кромки невозможно было разглядеть — лишь радужный, пульсирующий, нестерпимо тонкий лучик.
Гравёр не удержался и осторожно провёл по нему большим пальцем, и его тотчас словно ожгло лёгким, но пронзительным холодком. Гравёр невольно отдёрнул руку. И тотчас за спиной послышался скрипучий смешок Уго Стерна.
— Чего дёргаешься? Боязно? Оно правильно. Нож хороший. Тронешь не так — пальцы, как стручки полетят.
Рукоять костяная, судя по всему моржовый клык. С прихотливо выточенными ложбинами для пальцев
Эфес дугообразный, Посреди — полукруглая пластина чернёной стали. В центре её анаграмма — где выпуклая, где вогнутая. Гравёр не сразу сообразил, что она являет прихотливое сплетение двух букв Z и Х.
Заключена анаграмма была в вогнутый, гранёный барельеф семиугольной звезды. Для того, чтобы понять, что гравировка совершенна, для него достаточно лишь прикоснуться к ней подушкой пальцев. Металл, казалось, беззвучно пел под руками. Абсолютное совершенство граней, матовую, зеркальную чистоту шлифовки он угадывал с безошибочностью слепца.
— Что надо сделать? — спросил Гравёр, не открывая заворожённого взгляда от клинка.
Уго молча перевернул кинжал с боку на бок.
Вензель на другой стороне эфеса являл собою точное зеркальное отражение первого, однако без опоясывающей звезды. Кроме того, было ещё нечто совершенно неуловимое, лишь незримым интуитивным промельком ощущаемое, но что ясно указывало: анаграммы делались разными людьми.
— Надо, чтоб звезда была и здесь тоже. Всего-навсего. Сможешь?
Гравёр не ответил, он не мог отвести от кинжала зачарованного взгляда.
— Не можешь? — Уго хохотнул отрывисто и злобно. — Я так и думал.
— Я… я попробую!
— Ты попробуешь? — Уго разразился едким глумливым хохотом. — Он попробует! Нет, щенок, пробовать ты будешь девок на сеновале. А сейчас постарайся забыть о нашем разговоре.
— Мой господин! — Гравёр вскрикнул так пронзительно, что сам испугался. — Я не попробую. Я — смогу.
Мысль о том, что он более никогда не увидит этот кинжал, отчего-то привела его в отчаяние.
— Гляди, , — сказал, уходя, Уго Стерн, — сделаешь как надо, заплачу так, что на полжизни хватит. Испортишь — пожалеешь, что на свет родился.
И в этот момент Гравёру с неимоверной обострённой ясностью показалось что вокруг анаграммы тонким, искрящимся абрисом высветилась та самая недостающая семиконечная звезда. Она мерцала пульсирующим беловато-синим светом, будто некое потустороннее живое существо.
Ему хотелось смеяться от счастья — вот оно, ради чего он жил все эти годы. А ежели и не он, так и плевать трижды. Он сделает заказ, даже если на кону будет жизнь, ибо впрямь, грош ей цена, если он провалит этот заказ.
***
Наутро старик Норман хмуро и пристально оглядел кинжал. Даже сделал им несколько мгновенных рубящих движений крест на крест.
— Уго Стерн? — старик Норман покачал головой, не отрывая глаз от кинжала. — Не надо бы тебе с ним иметь дело. Уж поверь. Предоставь это мне.
— Нет, — Гравёр отчаянно замотал головой и глянул исподлобья.
— Тьфу, волчья порода. Смотри, я предупредил. Только ты с огнём играешь, помяни моё слово.
— Я справлюсь, — Гравёр вдруг улыбнулся. — ОН мне сам поможет.
— Кто – Он? — старик Норман подозрительно нахмурился. — Ты не о Господе ли нашем болтаешь, бездельник?
— Нет. Он — Гравёр торжествующе указал пальцем на эфес. Вот видите. Звезда! Она уже почти что есть. Осталось только вывести её по этому… сиянию!
— Звезда? Семиугольная, её ещё зовут Септа. Апокалипсический знак, который покуда толком не истолкован… Погоди, о каком сиянии ты говоришь?
— Ну вот же!
Искристый контур семи конечной звезды все так же посверкивал на эфесе, как сквозь туманную плёнку.
Старик Норман глянул на него тяжело и пристально.
— Ты ведь не морочишь мне голову, сынок? На умалишённого ты тоже непохож — дураки с ума не сходят. Стало быть, здесь то, чего я не понимаю. А коли не понимаю, то и говорить об этом не надобно. Сколько он дал тебе дней?
— Неделю, господин Норман.
— Много. Я даю тебе… четыре дня. Эти четыре дня ничем, кроме кинжала заниматься не будешь. Понял меня?
Гравёр кивнул, едва дослушав и едва не бегом кинулся к себе, прижимая к груди кинжал.
«Воистину, самому Диаволу не по силам остановить человека, который решил во что бы то ни стало сломать себе шею», — хмуро пробормотал старик Норман, глядя ему вслед.
***
Он не помнил, спал ли он вообще эти дни. Пожалуй, что и не спал вовсе. Если и спал, то и там было одно: мерцающий силуэт Септы. Он манил и, как будто, все время что-то подсказывал, но, придя в себя, он так и не мог вспомнить, что. От работы его отрывала лишь Каппа, которая дважды в день силой сволакивала его со стула и выводила на прогулку.
Азарт и страх жили в нем, не мешая, лишь уравновешивая друг друга.
Первые полдня ушли лишь на размышления. Он тщательно, до крупинки продумал, с чего и как он начнёт. Он приготовил всё, что может понадобиться ему для работы. Мысль, что его в самый сложный момент может отвлечь от дела какое-нибудь ерундовое отсутствие нужного резца или свёрлышка ему претила.
Он наслаждался работой. Он жил ею, она жила им. Когда дело почему-либо не шло, он не отчаивался, как оно бывало прежде, а лишь впадал в хищный, куражливый запал. Кинжал стал его сильным смертельным врагом и неоценимым другом. И страшило его лишь то, что она вскоре закончится.
Она и закончилась. Он это понял, когда вдруг погасла семиугольная звезда на эфесе. Словно та, рукотворная, законно пришла ей на замену.
Когда она закончилась, он показал кинжал старику Норману. Тот вертел его в руках, морщился, уже открыл рот, чтобы сказать по обыкновению что-то въедливое, но осёкся и вдруг обнял его и еле слышно всхлипнул. И в этот момент, показалось Гравёру, полыхнула и вновь погасла семиугольная звезда на чернёном эфесе…


