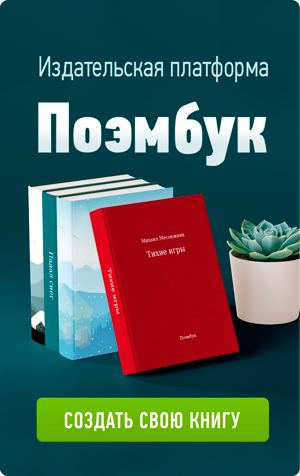6. 1-5: §1 "Иван да Марья". §2 "Евгений и Валентина". §3 " Дядя Шура". §4 "Тот файл", или Тётя Фая". §5" Испорченный Новый Год". Глава шестая: «Отцовская линия". Из книги "Миссия: Вспомнить Всё!"
Глава «Отцовская линия»
§1 Иван да Марья
Тётя Маша, родная сестра моего отца, вышла замуж за Ивана.
Получилось, как в сказке, — «Иван да Марья».
В 1952 году Мария из Ляписей приехала в Горький учиться. Поступила в электротехнический техникум.
Жить ей было негде.
Мои родители получили годом ранее крохотную комнатёнку в бараке от Станкозавода.
В этой самой комнатёнке поселилась и Мария.
Спала она на полу.
Вскоре к ней присоединилась и другая сестра отца, Фаина.
Так и спали: отец с матерью на кровати, рядом люлька с новорожденным Сашей, и на полу — две пышненькие аппетитные молодки.
Закончив обучение в 1956 году, Маша была направлена по распределению в город Семёнов.
Молодая, красивая белотелая девушка с чёрными (с вороным отливом) кудрявыми волосами сразу привлекла внимание начальника семёновских электросетей, от которого зависели условия работы и быта новой сотрудницы.
Начальник с удовольствием (и не без успеха!) уже давно использовал своё служебное положение в личных корыстных целях.
«Пользовал» он и подчинённых баб, включая замужних.
Вполне закономерно и ожидаемо, что он сделал недвусмысленное предложение Марии.
Та в ужасе шарахнулась от него.
Начальник не простил отказа, долго потом мстил при любой периодически возникавшей возможности.
В Семёнове спустя год Мария познакомилась с Иваном и быстренько выскочила за него замуж.
Может быть, чтобы за его спиной спрятаться от домогательств начальника?
Ивана отличало необыкновенное добродушие. Эта черта характера сразу расположила молодую девушку.
Через год, как и положено, у них родился сын.
Моего двоюродного брата назвали Сергеем.
Мальчик вырос боевитым, хулиганистым, но от отца он унаследовал главную всепобеждающую черту — безграничную доброту.
Летом все сёстры и братья Смородины брали своих детей и шумной большой компанией ехали на родину, к родителям, к моим бабушке Анастасии и деду Александру, в Ляписи.
Дни всеобщего сестробратания проходили незабываемо.
Приезжали, как правило, на Троицу. Престольный праздник храма Святой Троицы – самый большой православный праздник села Ляписи.
День Святой Троицы, или Пятидесятница (День святой Пятидесятницы), иначе – Духов День – один из главных христианских праздников.
Православные церкви празднуют День Святой Троицы в воскресенье в день Пятидесятницы — 50-й день после Пасхи (Пасха 1-й день).
Праздник входит в число двунадесятых праздников.
Отмечался он всегда в конце второй декады июня, часто 19 числа.
(Своё первое название праздник получил в честь сошествия Святого духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим вознесением на небеса.
Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога).
Молодые родители с детьми, да дед с бабкой, шли отмечать праздник в сад на склоне ляписской горы, который ниспадая вёл к небольшой речке Череусовке...
Прямо на траве расстилали старенькое покрывало, расставляли выпивку и закуски.
Пили мало, но много пели.
Мне очень нравилось слушать родных, было ощущение родственного единения в атмосфере необыкновенной душевности этого празднества.
Сейчас в селе Ляписи осталось всего 60 домов, а проживающего постоянного населения – всего 25 человек.
А тогда село жило бурной жизнью, домов было раза в два больше, и в каждом из них размещалась большая семья в несколько человек.
На улице постоянно тусовалась шумная ватага ребят подросткового возраста.
Летом в село в большом количестве наезжали бывшие ляписцы, ближайшие родственники нынешних сельчан, со своими, ставшими уже городскими, отпрысками.
Ляписи никогда не скучали в тёплую пору.
...Запомнился случай, когда маленький Серёжка сорвал с грядки пожелтевший огурец, припасённый его бабкой на семена, и с расстояния в несколько метров запустил овощ в своего отца.
Иван очень рано стал лысеть. В тридцать лет он имел солидную проплешину. Огурец попал ему прямёхонько в голое, давно освободившееся от волос темечко и рассыпался на нём на мелкие кусочки.
Со стороны могло показаться, что на лысине Ивана произошёл маленький взрыв (или мини-извержение вулканчика).
Сын Серёга с женой Ивана Машей весело загоготали.
Иван, скрывая смущение, как-то мило и очаровательно улыбался, стряхивая с головы огуречное месиво.
Странное, двойственное ощущение... Мне почему-то стало немного жалко его. До сих пор помню эту его (показавшуюся мне в какой-то мере необычной) улыбку.
Когда Сергей подрос, Маша порвала с Иваном все отношения. Потому что Иван стал пить.
В семье начались раздоры.
Они развелись.
Впечатлительный юноша, я тяжело переживал их развод. Но обратного хода уже не было. Тётя Маша «сожгла все мосты».
До конца своей жизни она продолжала несправедливо, на мой взгляд, люто ненавидеть первого мужа.
Её родная сестра Фаина к тому времени тоже жила одна вместе с дочерью Анной.
Видимо, сёстрам из рода Смородинных не суждено было жить с мужьями.
Правда, Мария в конце семидесятых, когда Серёга достиг совершеннолетия, сделала ещё одну попытку обрести полноценную семью – она стала жить с известным семёновским художником Осьминкиным.
Зарегистрировавшись, она взяла его фамилию.
Картины Осьминкина с той поры стали непременным атрибутом обстановки в доме тёти Маши.
Он делал неплохие копии картин именитых художников.
Одна из них — копия картины моего любимого художника Аркадия Пластова «Весна. В бане» (1954, холст, масло): молодая обнажённая румяная во всё своё прекрасное тело мама заботливо одевает маленькую дочурку.
Оригинал хранится в Москве, в Государственной Третьяковской галерее.
Обязательно посмотрите на эту красотищу! Её не перескажешь! Словами не описать!
«Женскую обнажёнку» он, Осьминкин, любил всей своей художественной душой. Поэтому копий картин советских художников-классиков с соответствующими сюжетами в его квартире развешано было предостаточно.
Что всегда доставляло мне несравненное удовольствие, когда я изредка навещал свою тётку в Семёнове.
§2 Евгений и Валентина
Дядя Женя — второй по счёту сын ляписской четы Смородиных, если учитывать только выживших их детей.
Первенцем был другой Женя.
Звали первого ребёнка почему-то Еней. Он родился за несколько лет до моего отца.
Парень рос бедовый, уверенный в себе, сильный духом. Лидер по натуре.
В два года от роду оседлал лошадь и с того времени достиг невероятных успехов в верховой езде до степени джигитовки. Во время скачки на лошади он выполнял такие акробатические трюки, что у свидетелей дух захватывало!
Сельчане дивились его храбрости. Все проблемы он решал слёту. Всё всегда у него получалось с первого раза.
Одна из «востроглазых» соседок говорила моей бабке: «Настасья, точно тебе говорю, такие долго не живут».
Как в воду глядела.
Енька в одночасье внезапно умер от детской инфекции в четырнадцать лет.
По установившимся (странным на мой взгляд) правилам имя умершего ребёнка передаётся новому младенцу. Отцу моему было всего несколько лет, когда появился на свет новорожденный "новый" Женя.
Мне дядя Женя запомнился как сухощавый (весь в деда Александра по фигуре), чуть выше среднего роста, немного окающий человек.
Его внешней отличительной особенностью являлся остро выпирающий кадык на длинной тонкой шее. Когда он разговаривал, пил-ел, кадык ходил туда-сюда сверху вниз и обратно.
После злосчастной встречи братьев, посвящённой разделу наследства от деда, умершего в 1978 году, отношения между моим отцом и его родными братьями резко испортились.
Мой отец просил у братьев и сестёр оставить родительский дом ему, обещая поделиться своими накоплениями в виде компенсации за унаследованное имущество.
Но те в резко-категоричной форме отказали ему.
Отцу было очень жалко терять родовое гнездо. Он сильно обиделся на «недалёких родственников».
Неблагодарные дети, по его мнению, «предали» память предков. Родные отцовы братья и сёстры беспощадно продали дом за две тысячи, а деньги поделили поровну.
Помню, как расстроился отец, когда получил почтовое извещение о переводе двухсот рублей.
Его отправил дядя Женя, постеснявшись после памятной ссоры приехать к родному брату.
Взаимоотношения братьев заметно охладели...
Тем не менее, отец наступившего охлаждения при нас не демонстрировал (об этой размолвке я узнал гораздо позже), общение Смородинских семей продолжалось, несмотря ни на что. Хотя былая искренняя сердечность заметно поугасла.
«Клеем» послужила тётя Фая, устраивающая на своей территории, в доме на улице Дизелестроительной, совместные празднования памятных дат. Тётя Фая обожала всех Смородинных до фанатизма.
Кроме того, она имела гараж и вместительный погреб, где дядя Женя и мы хранили плодоовощные припасы на зиму. Мы постоянно, не реже двух раз в неделю, навещали тётю Фаю для того, чтобы забрать из её подвала картошку, свёклу, лук и морковь.
А когда дядя Женя приобрёл заветный легковой автомобиль, то и гараж сильно пригодился. Дядя Женя ставил там машину, благо до дома его от тёти Фаи рукой подать.
Таким образом, дом сестры Фаины превратился в место добровольно-принудительных встреч представителей норовистого смородинского рода.
Тётя Валя, «дядиженина» жена, всегда была приветлива со мной и моим старшим братом Сашей. Она была трогательной, тонко чувствующей женщиной. Мне импонировала её необычайная лёгкость в общении. Она улыбалась при встрече со мной, при каждом удобном случае тепло привечала.
В 1962 году у них родился сын Андрей, оставшийся единственным. Андрюшка рос капризным, как и я.
В семейном альбоме хранится фотография, где мы с Серёжкой везём Андрюшку в сделанных из лозы санках. Озорной Серёжка подговаривал меня и мы вместе с ним разгоняли санки до бешеной скорости.
Маленький Андрюша пугался и заливался тонюсеньким, но громким возмущённым плачем. Присутствующие рядом родители ругали нас и отнимали санки, успокаивая разревевшегося, как писклявая сирена, малыша.
Ещё подростком я сильно сожалел, что тётю Валю постоянно огорчала обрушенная на неё со всей мощью «родовая ревность» тёти Фаи.
Я имею в виду Фаинины фанатские выкрики во время совместных застолий типа: «Все Смородины – самые лучшие!». Подтекстом читалось: «Все жёны моих братьев – самые худшие из жён!».
На этой почве моя мать и тётя Валя в каком-то смысле объединились в негласном соревновании с тётей Фаей и тетей Машей, образовав некую подпольную оппозицию «этим Смородиным».
§3 Дядя Шура
Последним ребёнком в большой семье Смородинных стал сын Александр, родившийся в 1944 году. Бабке Анастасии было тогда сорок с хвостиком.
Никогда не слышал, чтобы кто-то называл его Сашей или Александром. Он всегда был Шурой. Его родная сестра Фая с племянницей Аней называли его ласково Шуриком.
Дядя Шура отличался необыкновенным обаянием. Это его обаяние, как некая аура, окружало дядю Шуру, казалось, на расстоянии в несколько десятков метров.
Да что там какие-то метры! Вру, – километров! Он ещё не вошёл в комнату, а ты уже любил его, почувствовав приближение его невидимой оболочки, говоря другими словами, сверхобаятельного биополя.
Магическое действие обаяния состоит в том, что человек вроде бы ничего не делает, а нравится абсолютно всем.
Обаяние – это необъяснимая притягательность человека, которая не зависит от личностных достоинств.
Значение слова «обаяние» в словаре Ожегова: притягательная сила, покоряющее влияние.
Это врождённое качество характера. Я бы сказал, свойство человеческой души.
Психологи утверждают, что развитие обаяния происходит ещё в детстве.
Что обаятельны те малыши, которые растут в любви и понимании.
Что родители сумели их убедить в том, что любят своих детей просто за то, что они есть...
Поэтому в основу характера изначально закладывается хорошая самооценка, и эта уверенность со временем врастает и во взрослую жизнь.
Существует предположение, что обаятельные люди не боятся быть собой, они раскованы и приветливы, не стараются кому-нибудь польстить или угодить, излучают оптимизм и уверенность.
Не знаю, насколько сильно это относится к дяде Шуре.
Я не настолько много общался с ним, чтобы составить его полный психологический портрет или дать подробную характеристику его человеческим чертам.
Думаю, если оптимист что-то излучает, то это безусловно одно: любовь.
Остальные компоненты излучения являются лишь производными от любви.
Считаю, что обаяние передал Шуре его отец, мой дед Александр. Недаром у них совпадают имена.
Мой отец тоже в какой-то степени был наделен этим качеством.
Но особенно сильно проявилась эта черта в Саше, моём старшем брате. Он всегда был «чертовски привлекательным». Бабы вешались ему на шею, страстно мечтая о немедленном совокуплении.
Чем он и пользовался в своё самодовольное удовольствие.
.
В 1992 году коллектив пятой больницы (первой градской) в подавляющем большинстве проголосовал за то, чтобы Сашу назначили главным врачом их организации.
Сожалею, что он смалодушничал, объяснив свой отказ желанием «резать и резать» (то есть «оперировать») и личным неприятием «чиновничьей» работы.
Наличие обаяния я заметил и в себе (хотя я и не Саша). Оно здорово помогало мне на сцене во время фестивалей художественной самодеятельности. Публика бурно рукоплескала мне, подвывая от восторга.
Известный экстрасенс Сергей Николаевич Лазарев, автор нашумевшей книги «Диагностика кармы» предупреждает о другой крайности обаяния – об опасности поклонения толпы.
В безоглядном кумирстве она, эта толпа, не задумываясь, ринется за тобой по первому твоему свистку.
Если ты духовно незрел, то возникает вероятность того, что ты поведёшь толпу не в ту сторону. И вполне вероятно — прямо в пропасть!
Знающие люди в своё время информировали меня, что люди готовы пойти за мной без анализа ситуации и контроля своих поступков. Я задумался. В размышлениях об этой моей как оказалось проблемной черте личности...
Шура – единственный из сыновей и дочерей Смородинных, кто закончил высшее учебное заведение – Горьковский сельскохозяйственный институт (ныне – академия).
Он очень гордился этим обстоятельством.
Много лет он торжественно носил на лацкане пиджака ромбовидный нагрудный знак об окончании ВУЗа.
По распределению поехал в Перевоз, рабочий посёлок на реке Пьяне (с 2001 года – город; ныне – административный центр Перевозского района Нижегородской области).
Тогда в Перевозе проживали едва ли три тысячи человек (в настоящее время – около десяти тысяч).
Шура сравнительно быстро (за какие-то несколько лет!) вырос до руководителя среднего звена.
Александр Александрович – ярый патриот своей страны. Страстный поклонник сельского хозяйства.
В девяностые годы на фоне экономического разорения страны и катастрофического упадка, который испытывало в первую очередь сельскохозяйственное производство, сильно переживал.
Русская деревня – центр его души. Без неё он не мыслит своего существования.
Он уговорил своего племянника Андрея, сына брата Жени, пойти по его стопам. Андрей также закончил ГСХИ и уехал в Перевоз, несмотря на своё коренное городское происхождение.
Впоследствии он тоже занял солидный пост в Перевозском районе, по совместительству преподавал в техникуме (ныне – колледж).
Что любопытно, дядя Шура, его родной брат дядя Женя с сыном Андреем, – все, как заговорённые, «окали», как Максим Горький.
Могу объяснить «оканье» Шуры и Жени, родившихся в Ляписях, но каким образом оно передалось коренному горожанину Андрею, понять отказываюсь.
По наследству передалось, что ли? Какой-то ген, видимо, отвечает за внедрение буквы «О» в прямую речь человека.
Дядя Шура всегда очень сильно любил женщин.
Они отвечали ему тем же.
Любвеобильность однажды здорово подвела дядю Шуру. Он влип в точности по «паксяевскому сценарию» (Паксяев – мой однокурсник, впоследствии главный врач ЦРБ в Пермской области, - см. ч. 2 «Институт», § «Паксяев») в нехорошую историю с домогательствами.
Будучи начальником, уверенный в себе Александр Александрович решил воспользоваться своими полномочиями в личных целях.
Он загляделся на молодую сексапильную уборщицу. Стал приставать. Та наотрез отказалась отдаваться начальнику. И не только потому, что состояла в браке с любимым мужем. Из принципа.
Сделал ли он то, что вознамерился, мне неведомо.
Но уборщица разгласила подробности его приставаний (или их результатов).
Дядю Шуру спешно закономерно сняли с должности.
На перекурах, в перерывах тех или иных семейно-родственных торжеств, дядя Шура восхищённо рассказывал нам, мужикам, о своих любовных приключениях. По секрету полишинеля.
С особым удовольствием он описывал интимную встречу с учительницей-еврейкой, у которой лобковые волосы достигали уровня пупка. Зрелище, с его слов, грандиозное и чрезвычайно возбуждающее…
Я мысленно представил эти буйные заросли и мне стало как-то не по себе. А впрочем, кто знает, как я отреагировал бы, если бы увидел нечто подобное?
Не знаю, сколько любовниц у него было, но женат он был целых три раза.
На третьей, наконец, успокоился.
Она родила ему троих сыновей. «Троих богатырей» — шутил я.
Красавцами я бы их не смог назвать, но все они унаследовали (неуловимые на глаз, но определяемые внутренним чутьём) характерные «смородинские» черты.
Кроме обаяния, следов которого я, увы, у них уже не обнаружил. Хотя, надо признаться, общался с ними «шапочно». Ребята грубоватые, молчаливые. И ведут себя, как неотёсанные деревенщины.
Однажды к нам в кабинет гигиены питания вошёл молодой человек, на вид лет тридцати.
Я ахнул: «смородинская аура» сияла над его фигурой.
Он подошёл к моей коллеге Наталье Владимировне Векшиной для обсуждения деловых вопросов.
«ИП Смородин» — представился он.
Я чуть не свалился со стула.
О том, что он — Смородин, мне почему-то было ясно за несколько мгновений до того, как он подошёл к столу Векшиной и открыл рот.
Когда он закончил разговор и собрался уходить, я не вытерпел, раздираемый диким любопытством, и спросил, не знает ли он случайно Александра Смородина из Перевоза или кого-либо из Смородиных, проживавших в селе Ляписи. Он не знал. На том и расстались.
Я пожалел, что не взял его телефона для связи на всякий случай.
При первой же подвернувшейся встрече с дядей Шурой я рассказал ему о посещении нашего рабочего кабинета человека по фамилии Смородин.
Задал дяде Шуре провокационный вопрос, не нагулял ли тот примерно тридцать лет назад с какой-нибудь молодушкой «левого» ребёночка.
Дядя Шура не стал вот так сразу отнекиваться, но переспросил: «Тридцать лет назад?». Я утвердительно кивнул.
Он немного подумал, силясь вспомнить, с кем он мог тогда «кувыркаться на сеновале».
Потом уверенно произнёс: «Нет. Это не мой внебрачный сын. Тридцать лет назад, точно знаю, я никого не «забрюхатил».
Как и тётя Фая, дядя Шура с огромным благоговением в сердце, священным трепетом в душе относится ко всему, что связано со славным родом Смородиных.
Так повелось, что в селе Ляписи, где он родился, более половины населения имело одну и ту же фамилию – Смородины.
Чтобы хоть как-то различать друг друга, к фамилии «Смородин» добавлялась фамилия ближайшего предка.
Представители нашего рода подписывались двойной фамилией примерно так: «Смородин%Агафонов», «Смородин%Мошков».
Через косую черту или так называемую «черту дроби».
Точнее, почти через «знак процента». Только вместо двух «о» через черту писались точки.
Двойная форма подписи давала возможность хоть как-то разобраться в бушующем ляписском обилии одинаковых фамилий и приблизительно понять, о ком конкретно может идти речь.
Не знаю, почему именно в Ляписях развелось много Смородиных.
Предполагаю, понаслышке, что фамилия барина, владевшего селом, автоматически переносилась на его крестьян.
Так было и в других поселениях. Этим можно объяснить одинаковость фамилий сельчан.
Но в любом случае все Смородины, обитающие ныне в селе, являются по сути дальними родственниками.
(Чаще всего в стародавние времена браки заключались между односельчанами).
Дядя Шура кропотливо восстанавливал генеалогическое древо.
Он подарил всем ближайшим родственникам альбомные листы, где стрелочками изобразил древо рода по нисходящей, начиная от Марка.
Наши поговаривали, что самый древний предок, имя которого сохранилось в родовых анналах памяти, был по происхождению сербом.
Шурины «генеалогические изыскания» послужили первоначальному замыслу и стали фактически своеобразным эпиграфом к моей книге воспоминаний, полностью войдя в параграф «По древу».
§4 "Тот файл", или Тётя Фая
Моя родная тётка по отцовской линии Фая, которую я посещал чаще других по причине наличия в их частном доме вместительного погреба, где мы хранили свои съестные запасы, жила вместе с дочерью Анной, моей двоюродной сестрой.
Она дико, маниакально, слепо любила меня, как и всех, имевших родственные корни от семейства Смородиных.
Называла меня, как и мать, «душенькой». Только прибавляла к «душеньке» «Павлушеньку». Получалось «Душенька-Павлушенька».
Как-то я занимался словотворчеством и придумал ей прозвище «Tote File», не раздумывая над тем, что оно означало на слух. Оно понравилось мне с фонетической стороны.
Через многие годы, когда её уже не стало, я перевёл своё изобретение с английского.
«Totе» — тотализатор (правда, в пристрастии к азартным играм на деньги, как и прочим играм, кроме психологических, глубоко порядочная тетка не была замечена), но вернее оказались другие значения этого английского слова, такие как: «нести», «перевозить», «груз» (в точку!).
Я постоянно таскал тяжёлую поклажу на себе, как ишак: от сада на Станкозаводе до тёти Фаи или от дома на проспекте Ленина до улицы Дизелестроительной и обратно.
«File» («файл»). Тут всё сложнее. О компьютерах тогда и речи быть не могло (были ЭВМ).
«Архив», «картотека» — что ж, Фаина могла многое рассказать о предках, о родословной, потому что была человеком, страстно поклонявшимся всему, что связано с семейством Смородиных.
Но разговоров со мной на эту тему что-то не припомню. Это любимая тема моего отца и дяди Шуры.
Если «напильник» или «пилочка», что иногда свойственно представителям женского рода, то и здесь ни в чём тётку упрекнуть не могу.
Меня она никогда не «пилила».
Наоборот, была всегда приветлива со мной, радовалась каждой встрече, ценила мой юмор. Даже просила рассказать что-нибудь забавное или смешное.
Поэтому как-то связать второе слово в произвольно выбранном, на слух, прозвище мне не удалось. Даже слова «папка» или «дело».
Думаю, всё дело в фонетике, а не скрытом смысле. Английского я не знал. Имя «Фаина» в английском не употребляется.
Имя Фаина — греческого происхождения. Φαεινή — означает: «сияющая». Короткое значение имени Фаина: Фаинка, Фая, Фаюша, Фаня, Фаля, Ина.
Она никогда не копила зла на родственников по той же причине любви к ним.
Можно вполне уверенно заметить, что жён своих родных братьев она всё же недолюбливала. Старалась подчеркнуть их недостатки. Но если и имела неосторожность высказываться на эту тему, то только глубоко по секрету при разговоре с глазу на глаз со своей сестрой Марией.
Я подобных речей от них не слышал никогда. И догадываться о существовании их стал гораздо позже, на основании отдельных брошенных «за глаза» в адрес жён братьев реплик от тёти Маши.
Тем не менее, вне зависимости от сложившихся взаимоотношений с близкими (братьями-сёстрами и их жёнами-мужьями), нас, отпрысков и чад, она боготворила.
Она единственная из семейства, кто любил похвалиться, превознося все достоинства и преимущества лиц, имеющих прямое (а не косвенное, как жёны братьев!) отношение к достославному роду Смородиных.
Не вижу в этом ничего плохого. Как говорят психологи, нужно уметь «поглаживать» (от слова «гладить», а не «глодать») себя и окружающих.
Несмотря на привычку «экономить» и «припасать», никогда не жалела средств для организации на её территории встреч с близкими родственниками в парах с дражайшими половинами.
Тётя Фая всю жизнь проработала на одном месте — в детской молочной кухне, что позволяло ей оказывать помощь нашим родственникам, имеющим маленьких детей.
(С детским молоком и кефирчиком в то время была напряжёнка).
Бидончик под молоко стал моим постоянным спутником по дороге на улицу Дизелестроительную. В довесок она вручала мне две мерных (по 250 мл.) бутылочки с кефиром. За что ей огромное-преогромное спасибо.
На пенсии она копалась в своём огородишке, удобно расположенном прямо у дома. Отдыхать она не любила. Пахала на нём даже при плохом самочувствии.
Изнутри дом тёти Фаи всегда сиял исключительной чистотой. Не заметил ни одной пылинки, не то чтобы грязного пятна. За чистотой она следила, как мне казалось, с патологическим тщанием.
Вещи никогда не валялись. Всё было убрано, разложено по полочкам.
Порядок в доме стал для тётки наиважнейшей стороной её жизни. Всё сияло и блестело в неимоверной чистоте.
Может быть, всё дело в том, что имя «Фаина» (Фаэйне, Фаини) означает «Сияющая», «Блестящая»?
Эта черта передалась и дочери Анне.
Снаружи дом тоже выглядел не хуже, чем у приличных людей. Все накопленные трудами деньги тётка отдавала на дорогостоящие ремонты (то крыши, то подвала).
Построила гараж на территории дома. Уложила тротуарной плиткой дорожку к дому. Разбила под окнами цветник.
Как она со всем этим справлялась, представления не имею!
Но она смирилась со своим статусом одиночки, и научилась находить радости в не раскрашенной яркими событиями жизни. Хотя бы в общении с родственниками.
С соседями она (также крепко!) дружила. Они в какой-то мере тоже стали для неё людьми близкого круга, зачастую являясь участниками всеобщих Смородинских застолий.
Рядом с её домом находится большой каток на территории бывшего стадиона. По выходным дням зимой, когда народ выходил покататься на коньках и лыжах (по лыжне, проложенной по периметру катка) из репродукторов стадиона доносилась музыка, создававшая праздничную атмосферу отдыха в доме тёти Фаи.
Сама она очень рано овдовела, ещё в 60-м году, когда её маленькой дочурке Анечке исполнилось два годика.
Её муж, Шилов, достраивал этот кирпичный дом и сильно простудился.
Слёг с пневмонией, как осложнение получил отёк лёгких и скоропостижно скончался.
С тех пор тётя Фая даже не делала каких-либо попыток повторно выйти замуж. Фамилию себе она оставила мужнину — Шилова.
И была предана ей, несмотря на большую значимость принадлежности к роду Смородиных.
Дочь Анна, позднее выйдя замуж, не стала полностью отказываться от девичьей фамилии, и в акте бракосочетания добавила к ней фамилию мужа. Так и жила с двойной фамилией «Симонова-Шилова».
(Кстати, Анна в своё время познакомила меня с книжкой избранных стихотворений Ильи Эренбурга. Я с удовольствием ознакомился с творчеством этого поэта. Правда, ни одного стихотворения Эренбурга я не счёл хитовым, не отнёс к разряду «бесподобных» и потому в репертуар своих поэзовечеров никогда не включал).
Спустя много лет я спросил тётку, почему она раз и навсегда априори отвергла всех мужчин.
Тем более, что Анна находилась в том возрасте, когда новый папа мог бы, не травмируя неустоявшуюся психику ребёнка, аккуратно влиться в их семью.
Ответ меня удивил: «Я не хотела предавать свою дочь!».
Как тётка строила свою интимную личную жизнь, для меня до сих пор остаётся загадкой. Ни одного мужика рядом с ней мы слыхом не слыхивали и видом не видывали.
Либо (остаётся предполагать) она обладала неплохими конспираторскими способностями.
Фаин дом имел деревянный пристрой с небольшой комнаткой. Тётка пополняла свой скромный семейный бюджет тем, что сдавала эту комнатку постояльцам, которые жили у неё много лет.
Одна из таких жиличек закончила юридический, и убедила Анну в том, что лучше института нет.
На мой взгляд, Анне по характеру подошла бы специальность врача, предпочтительнее педиатра. Хороший бы получился врач!
Но Анна решила поступать в юридический, каковой и закончила, став работником ОВД.
Забегая далеко вперёд, сообщу, что она успешно проработала всю свою профессиональную жизнь, и вышла на пенсию в чине подполковника милиции. Видимо, полковником стать это как-то не по-женски, что ли.
(По этому поводу я шутил: «Настоящая женщина (даже в милиции) всегда должна быть «под...»)
§5 Испорченный Новый Год
Одним из торжеств, организованных тёткой, стала встреча круглой даты хронологического порядка — Нового 1970-го Года.
Прежде чем явиться к столу, я предусмотрительно посетил известный Центральный Универмаг в Канавино и, выстояв длиннющую очередь, приобрёл хлопушки для праздничного домашнего салюта.
Очередь была не просто длинной, она была невероятно огромной. Это не очередь, а толпа, всей своей массой сжимавшая о всех сторон маленький лоток, с которого бойко торговала матёрая пожилая работница советского прилавка. Товар реализации не подлежал, так как хлопушки оказались бракованными. О чём продавщица не преминула честно известить окружающих покупателей.
Отсутствие времени и выбора в предновогодние часы не располагали к поискам качественного товара, и я охватил десяток испорченных.
Собственно, испорчены они были весьма условно: наружный торец картонной трубочки был лишён девственности (то есть попросту был дыряв), что не являлось непреодолимым препятствием для совершения основной функции хлопушки — выстрела.
Итак, у тетки нас ожидал щедрый обильный стол во всю длину большой комнаты, уставленный всевозможными явствами и вполне достаточным ассортиментом алкогольных напитков (помимо прочего Фаина умела гнать хорошую самогонку). В потолок упиралась звездой разлапистая ёлка, украшенная новогодними игрушками, гирляндами и «дождём».
Взрослые заняли свои места.
Мы, подростки 10-13 лет, в традиционном составе (который дед Смородин окрестил звучным, как у джас-банда, названием «Андре-Сере-Паша и Анна», что в переводе означает «Андрей, Сергей, Павел и Анна») уселись у подножия царицы торжества — ёлки, изображавшего громадный сугроб из ваты, рядом с которым торчали многообещающие Дед Мороз и Снегурочка из папье-маше.
Мой отец, по праву старшего в семействе, встал с наполненным бокалом и начал произносить громогласный тост, не забывая отметить радушие хозяйки и высказать радость по поводу присутствия на званом вечере многочисленных представителей своего священного рода.
Я шепнул сидящим поблизости двоюродным братьям: «Приготовьтесь. Как только мой папа закончит говорить, я выстрелю из хлопушки».
С этими словами я вынул первую хлопушку и направил её дулом прямо на верхушку ёлки, памятуя первейшее правило пожарной безопасности при пользовании пиротехническими изделиями.
Отец продолжал долго говорить (откуда столько слов у молчуна родом из глухой деревеньки?), и это обстоятельство позволило Анне перехватить инициативу. Точнее, хлопушку из моих рук.
«Нет я!» — безаппеляционно возразила она по праву самой старшей из нас и, зажмурившись от страха ожидаемого выстрела, стала усиленно тянуть за верёвочный шнур от запала хлопушки.
Я предусмотрительно направил её руку с хлопушкой вверх, но рука у Анечки дрогнула, и к моменту завершения отцовского тоста хлопушка (не без помощи трусливо зажмурившейся Анки) опустила прицел прямо на импровизированный ватный сугроб.
Раздался хлопок, и сияющие огоньки сгорающих в воздухе крохотных разноцветных кружочков конфетти дружно полетели в сторону сугроба.
Все кружочки, кроме одного, благополучно сгорели ещё в воздухе, даже не коснувшись пола.
Кроме одного.
При отсутствии коего все даже не обратили бы внимания на наш выстрел...
Но этот, один, злонамеренный горящий кружочек, как в замедленных кадрах кино, падал и падал, медленно опускаясь к подножию ёлки.
До ваты сугроба он не долетел, упав буквально в одном сантиметре от неё.
Я было облегчённо вздохнул, считая, что и этот огонёк уже практически потух.
Но не тут-то было!
Пистончик-конфетти вроде бы догорел, превратившись в полуистлевшую чешуйку, издевательски мигнув на прощание.
И тут произошло невероятное!
По призрачной тончайшей ватной паутинке, которая предательски протянулась к умирающей чешуйке, огонёк, прежде чем окончательно погаснуть, как по невидимому бикфордову шнуру, стремительно перебрался к злосчастному сугробу, который, в свою очередь, беззвучно на фоне полной тишины (мы застыли в ужасе, а взрослые уже закусывали папин тост), полыхнул синим мерцающим пламенем.
В нём было что-то нереальное, искусственное...
Мой разум отказывался верить происходящему на моих глазах, вопя: «Не может быть!».
На самом деле прошло не более нескольких долей секунды с того момента, когда раздался выстрел: отец ещё стоял с опустошённым бокалом в руке.
Ель с охваченной огнём крестовиной находилась прямо перед его глазами.
Никто, кроме него, не мог видеть разворачивающейся сцены. И потому — в непонятках — изумились, наблюдая его неадекватные, как могло показаться, дальнейшие действия.
После заключительной фразы отец схватился пятернёй за нижнюю поверхность полотна стола и резко опрокинул его (а также всю снедь со скатертью и посудой) на пол, как перепивший буйный клиент ресторана.
Окружающие были шокированы и растерянно онемели в полном недоумении.
В один момент (в их глазах) мой отец из родного, дорогого сердцам присутствующих человека (к тому же после прекрасной речи в их адрес) превратился в мерзкого бытового хулигана.
Никто ровным счётом ничего не мог понять, видя, как отец в дополнение к совершённому вцепился в тюлевые занавески, куда мог перекинуться огонь, и сорвал их вместе с гардинами.
Разрушения, учинённые отцом, стали тотальными. И всё, что разрушено, плохо подлежало восстановлению.
Ватный сугроб какой-то курткой всё же удалось потушить, но дым от него пошёл жуткий — густой, едкий, вонючий.
В довершение разгрома пришлось разбить стекло законопаченного на зиму окна для организации естественной вытяжки. Дым заполонил все комнаты дома.
Представшая картина была более чем удручающей: высаженное окно, опрокинутый стол, разлетевшиеся в разные стороны стулья, упавшая ёлка, битая посуда, раздавленная, размазанная по полу закуска вперемешку с осколками битых ёлочных игрушек, испачканная груда тюлевых занавесок с обрушенными гардинами. И тлеющий пепел ваты посредине апокалипсиса...
(Хорошо погуляли!).
Родственники, конечно, огорчились, но оставаться отмечать Новый Год посреди дымящихся руин не имело смысла.
Все разошлись по своим домам, оставив рыдающую в центре комнаты Анну, которую её мать, словно в наказание, заставила заняться сбором оставшихся не разбитыми (или не раздавленными в суматохе тушения пожара) ёлочных украшений.
Отца потом осуждали за излишне эмоциональную реакцию.
Но кто знает, как бы развивались события, не прими он экстренных мер по тушению пожара в самом его зачатке!
Мне, наблюдавшему всю эту сцену от начала до конца, столь экстренные действия отца показались вполне оправданными.
И горячность его в ситуации, требующей действий без промедления, объяснимой и обоснованной.
Одно для меня осталось загадкой: почему мечущаяся в густом дыму и полной растерянности паникующая толпа пощадила единственный оставшийся в полной целости и сохранности предмет обстановки — телевизор?
Надо было и его — того, тоже грохнуть.
Для логичного завершения процесса разрушения и создания полной картины из серии «Последний день Помпеи».