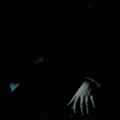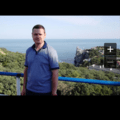ПОМЕЩИК
Занимался рассвет, тягучий и весь какой-то пришибленный. Без особого рвения пробовали свои сиплые голоса сонные птахи. Словно нехотя расправляло свои лучи мутное, как лицо пассажира за стеклом в автобусе в семь утра с копейками, солнце. Природа отчаянно не хотела предстоящей июльской влажной, удушающей жары, уклониться от которой, однако, было нельзя. Анюта сидела под старым уродливым деревом с пышной листвой и, сглатывая слёзы, вздрагивая всем своим продрогшим
до костей, ныне малость покалеченным, но ещё вчера весьма привлекательным для противоположного пола телом, едва прикрытым обрывками когда-то нарядного, хоть и немного вульгарного бордового платьица (своей тонкой кожаной курточкой она прикрыла останки Иры, понимая где-то в глубине сознания, что случайной подружке уже всё равно; она не могла признаться даже себе в том, что церковные обряды были мало ей интересны - смотреть на труп оказалось попросту выше её сил), осторожно обдувала глубокую ссадину на коленке, болевшую почему-то намного сильнее других повреждений, которых было не сосчитать. Однако слёзы эти, как ни странно, были слезами радости и облегчения. Её мучитель теперь далеко, больше ей нечего бояться. Совершенно нечего. Всё самое страшное в её неловкой жизни уже позади.
Второй огромной удачей стало то, что густой лес неожиданно для девушки озарился светом фар машины, проезжавшей на малой скорости чуть правее неё. Третьей - то, что машина оказалась милицейской, потому что простые люди легко могли просто-напросто отказаться помочь ей. Помогла бы она сама в такой ситуации - об этом думать ей было трудно. Она и не думала.
На девушку вдруг свалилась тяжёлая, весом как будто сто тонн, апатия. Тело стало неповоротливым и каким-то чужим. И вдруг неожиданно сильно заболели раны, все, как одна. Анюта с трудом поднялась и, вялая, с непомерным усилием передвигая босые ноги, пошла навстречу спасению. Её сильно тошнило, голова кружилась, была тяжёлой, гудящей и горела, хотя всё тело колотил непроходящий озноб.
Пошатываясь, она вышла на асфальтовую дорогу и увидела, как остановилась та машина, осветив её фарами. Она упала на разодранные в лесу колени и поползла вперёд, что-то мыча, простирая вперёд израненные, покрытые грязью руки и время от времени заливаясь хохотом, густо перемешанным со слезами.
Правая дверца машины открылась. Тонкими пальчиками с обломанными до живого мяса ногтями Аня вцепилась мёртвой хваткой в куртку широкоплечего капитана, обильно пятная не очень свежую форменку остатками дешёвой косметики, своей кровью, цементной пылью из подвала и жидкой грязью, в изобилии собранной по дороге. Тот, ничего не спрашивая, властно и крепко обнял её за талию, посадил на заднее сиденье, сам сел рядом с ней, хлопнул дверцей и коротко кивнул водиле - поехали, мол, чего стоять, не видишь, плохо человеку.
Поездка до отделения превратилась в одно сплошное рыдание. Анечка напрополой несла какую-то истеричную чушь, звала родителей, проливала слёзы, проклинала мерзавца Вадима и жалела несчастную Ирочку, неоднократно высказывала желание покинуть машину и пойти покончить с собой, а затем вернуться и страшно отомстить обидчикам, цеплялась за молчаливого сосредоточенного капитана, которого она, напрополой соблазняя своим телом, умоляла не отдавать её никому и который гладил её по спутанным немытым волосам и жестоко расцарапанным ветками голым налитым плечам и открытой спине, стараясь не смотреть на сочные девичьи прелести, выпадавшие из разорванного платья при каждом движении, и бормотал какие-то пустопорожние слова утешения.
В отделе Анечка уже могла говорить более или менее связно. Поминутно захлёбываясь слезами, перескакивая с одного на другое, она рассказала, как приехала в Москву из неустроенного города Краснодара, как устроилась на работу в третьесортное кафе, как встретила там Вадима, который показался ей самым настоящим принцем из сказки. Ей казалось, что это действительно её Судьба. Молодой, красивый, богатый, ласковый, щедрый, не зануда, не тряпка, не наглый пополам с робостью, как её одноклассники и одногруппники в училище. Она не сомневалась ни минуты, что он послан ей самим Небом за все те жестокие испытания, которые как из лопнувшего мешка выпали на её долю, её, нежной двадцатитрёхлетней Анечки. Как же ей, такой хорошей, может не повезти в жизни? Пусть и не сразу, но повезёт непременно. Иначе выходит крайне несправедливо.
Она рассказала, как в течение одного года умерли друг за другом её папа и сестра (он - от инфаркта, совсем молодым, она - от родовой инфекции, потеряв ребёнка, принесённого ею "в подоле"), как в один страшный для неё день (ей тогда было всего лишь девятнадцать лет) начала заговариваться мама, единственный оставшийся у неё близкий человек, как злые соседи обманом лишили их с мамой квартиры, как она приехала в Москву, чтобы стать певицей, как училась, а стала официанткой, как график её работы становился всё напряжённее и напряжённее, как вместо суток через двое она стала как-то незаметно даже для самой себя работать каждый день, как ей вменили в обязанности навязывать посетителям услуги, как напрополой штрафовали именно их, официанток, "низшую расу", распределяя между ними неизбежные убытки... Как она подошла три дня назад к лучащемуся светлой улыбкой мужчине лет тридцати с пронзительно серыми глазами и коротко постриженными волосами цвета спелой пшеницы, одетому в бежевую рубашку и удивительно белоснежный для душного летнего вечера костюм, по привычке начала его "обрабатывать" и вдруг остановилась, поймав краем глаза его острый, насмешливый, ласковый, казалось, всё на свете понимающий взгляд... Понимающий, как облупленную, в том числе её, Аню Жукову, и принимающий её со всеми имеющимися проблемами и недостатками, потому что знает, что достоинств у неё значительно больше. Как она спокойно села в его роскошный белый "Рено" и как после этого оказалась в том жутком подвале рядом с Ирой, попавшей туда, как та сказала, днём раньше... Как Вадим принёс большую коробку, в которой что-то странно, но почему-то знакомо жужжало без остановки, как пронзительно закричала Ира, когда первый шершень, которого из той коробки достаточно умело извлёк пинцетом Вадим, вонзил своё отравленное жало ей в лицо, как её изящное, хрупкое, белокожее тело понемногу превращалось в один сплошной устрашающий своим видом отёк, а стоны становились всё глуше и глуше... Как потом Вадим часто и прерывисто дышал и шумно втягивал воздух сквозь стиснутые зубы, и как он вдруг застонал и обмяк... Как она даже не плакала, запертая в подвале рядом с телом так жестоко убитой ни в чём не повинной девушки, по возрасту младше неё на два года, потому что окаменела от ужаса, как не могла спать, забившись в самый дальний от покойницы угол... Как трудно было ползти в этот угол, извиваясь, будто ящерица, со связанными руками и ногами... Обломаем, сказал Вадим, когда она во время неравной схватки больно укусила его за палец... Как вчера, вернее, уже сегодня, он плохо запер тяжёлую дверь в подвал, как она бежала, не разбирая дороги, а он раз за разом неожиданно возникал перед нею, и страх снова и снова придавал ей силы бежать... Как она споткнулась о предательски торчащий из земли корень, не замеченный ею в темноте, и растянулась на земле во весь рост, как она сначала, не помня себя от ужаса и совершенно не замечая боли, продиралась, не разбирая дороги, сквозь неизвестные ей колючие кусты, потому что садист её нагонял и был уже близко, а потом, придя в себя, плакала навзрыд от сильной боли и пыталась найти дорогу обратно, и что было страшнее: агрессивные злобные кусты или призрачный Вадим, который, очевидно, ждёт её на выходе - он не дурак, чтобы ломиться через колючки, а ей, он знает, насквозь не пройти - она не знала... И как она потеряла контактную линзу и нормально видела только одним глазом... И как темно и страшно было в лесу, через который она бежала... И как она внезапно уткнулась в четырёхметровой высоты бетонный забор, верх которого был утыкан острыми осколками стекла, и как решила всё же перелезть, цепляясь непослушным пальцами рук и ног за рустовку стены, и как ей удался этот манёвр, и как она ревела белугой, спрыгнув-таки на ту сторону и поняв, что это был лишь чудом уцелевший кусок снесённого ранее забора, длина которого оказалась всего метров тридцать...
Худая высокая женщина лет сорока с небрежно сделанной "химией", одетая в плохо сидевший на ней, но идеально чистый и отглаженный мундир с погонами старшего лейтенанта тщательно обработала раны Анютки, предварительно дав ей помыться в неожиданно уютной для отделения милиции душевой, напоила её вкусным чаем с бутербродами и печеньем, заставила проглотить какие-то таблетки, от которых почти сразу прошёл колотивший и сотрясавший тело озноб, и уложила на жёсткий, но вполне удобный диван в комнате отдыха. Накрыв девушку пушистым тёплым пледом с цветочками, она тихонько вышла.
Анечка спала и видела во сне счастье. Вот Вадим показывает ей свой роскошный дом... "Эта земля вокруг, несколько сотен гектаров, моя"... "Так ты помещик?" "Что-то вроде этого..." Вот пенится шампанское, настоящий "брют", вот и долгожданный поцелуй твёрдых, нисколько не вялых, но одновременно таких мягких снаружи и тёплых губ... К вечеру, как и положено, на подбородке и щеках Вадима проступила едва заметная щетина, Анютка, сидя у него на коленях, сперва осторожно, а потом вволюшку трогает её пальчиком, а Вадим, её любимый Вадим смеётся своим неповторимым смехом... "А вот подвал ещё не доделан... Там будет тренажёрный зал..."
Анечка спала и улыбалась во сне. Она не слышала, как в комнату вошёл Вадим и не слышала, о чём разговаривал с ним капитан.
- Ты стал косячить, - голос капитана был строг. - Та вэдэвэшница полгода назад... Которая сделала из тебя отбивную. Тебя едва спасли! Да, она крутой совсем не выглядела. Да, она недавно подсела на таблетки. И что? Сколько я тебя ещё буду покрывать? Блондиночка неделю назад из болотца всплыла. Ты, кстати, не думай, что оно бездонное. Магдач тогда приехал, - капитан выразительным жестом указательного пальца ткнул в сторону потолка.
- Гири кончились, - покаянно сказал Вадим. - не буду больше.
- Ну ладно, забирай её. Но чтобы в последний раз!