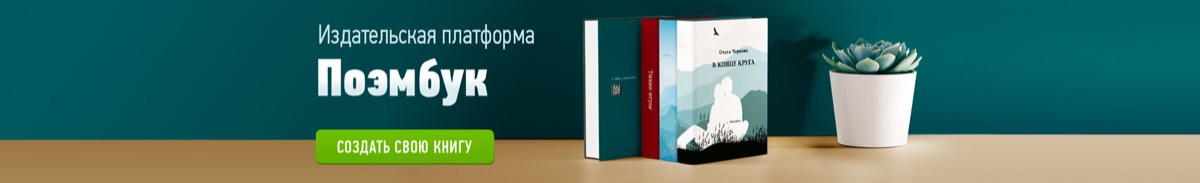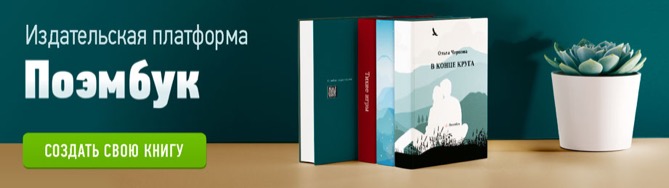Рецензия на "МОЙ СЛАДКИЙ СОН" Автор: Колесник Макс
МОЙ СЛАДКИЙ СОН
Автор: Колесник Макс
Вот тот РЕДКИЙ случай, когда есть смысл говорить о стихотворном размере. Название написано в строгом ямбе. «Мой слАдкий сОн». Но, как видим, это – окончание заключительной строки. Значит, и всё стихотворение должно быть написано ямбом? Давайте посмотрим.
Осень сквозь память неспешно, как ветер – Чистокровный дактиль. Может быть, ритмика произведения – рваная, допускающая перескоки с одного стихотворного размера на другой? Да нет: автором планировался строгий трёхстопник, поскольку перед нами – задумка убаюкивающего вальса, никаких ритмических вольностей не допускающая.
«…вальса Бостон…»
Давайте теперь посмотрим, к чему это приведёт.
Проведём СПЕЦИАЛЬНЫЙ семинар по проблеме СДВИГОЛОГИИ (от СДВИГ и ЛОГОС – слово). Термин ввёл в середине прошлого века Александр Александрович Реформатский, лингвист, доктор филологических наук, профессор, преподававший в Литинституте и в МГУ. Его учения донёс до наших поколений замечательный поэт и педагог Иван Васильевич Рыжиков. Развил и углубил этот вопрос ученик Рыжикова, современный поэт, преподаватель ВЛК им. Бунина Сергей Крюков.
СДВИГОЛОГИЯ – это слияние слов при чтении вслух, происходящее из-за того, что автор, составляя текст, не вполне слышит воспроизводимое на бумаге. Вставляет слова, пытаясь наполнить строки, не очень задумываясь над их произношением. Допускает безударность использования слов, состоящих из двух и более слогов, забывая при этом о том, что в русском языке подобное просто невозможно. Разговорная или декламационная речь в любом языке построена так, что слова, благодаря падающим на один из слогов ударениям, отделяются друг от друга при произношении. Можно, забыв о ритмике произведения, наполнять строки произвольно-ударными словами, но тогда это уже не будет ритмической речью, традиционная поэзия подобного не приемлет.
Напомню, в чём отличие этого термина от термина СДВИГ. Последний предполагает, что при слиянии слов образуются при произношении неудобоваримые сочетания, как например, «к окну» – «какну», – или же благозвучные сочетания иного смысла, как например, «ряда слов» – «ряд ослов», «Наполеон» – «на поле он» и т. п.
Сдвигология может образовываться не только из-за безударности двухсложных слов. Иногда она выплывает в самых неожиданных местах. Приведу пример недавно встретившейся строки: «Я сам себя взорву, как атом». Не стану уточнять, чья строка. «какатом» - ярко выраженная сдвигология.
Реформатский и Рыжиков учили вылавливать сдвигологии просто на слух. Крюков рекомендует обращать внимание вот на какой момент: Если при чтении вслух читающий «спотыкается» в каком-либо месте, то есть делает не соответствующую ритмике текста паузу, иногда едва заметную, чтобы отделить при произношении слова друг от друга, – это верный признак наличия сдвигологии. В приведённом выше примере отчётливо слышна при произношении несанкционированная пауза после слова КАК.
Вообще говоря, понятие «поэтического слуха», кроме всего прочего, автоматически включает в себя естественность генерации автором текстов чистых, лишённых технических недочётов, что достигается работой внутреннего редактора профессионального поэта. Но, как гласит пословица, не ошибается тот, кто ничего не делает. У профи тоже бывают погрешности в свеженаписанных текстах. Но профессиональные литераторы, музыканты, художники… работают со своими текстами, прежде чем те выходят в свет. Бетховен, например, до пятидесяти раз переписывал свои труды.
Подход к проблемам по принципу: если этого нет в интернете, то ни проблемы, ни термина не существует, – я оставляю на совести тех, кто подобным образом осваивает литературные науки. Исполать им! Аналогом могу привести в пример такую ситуацию: «В городе выпал снег, а старичок говорит, мол, нет никакого снега, потому что об этом ещё не сказали ни по радио, ни по телевидению.»
Минимум половина авторов сайта больны этой болезнью, недопустимой в серьёзной литературе. Но никто всерьёз не обращает на неё внимания. Я из рецензии в рецензию показываю ошибки такого плана, но авторы шлют и шлют на разбор произведения, сплошь и рядом пестрящие сдвигологиями. Или на чужих ошибках нынче учиться – не комильфо?
Сквозь снегопад под присмотром луны,
Чей строгий лик так особенно светел, – СТРОГИЙ – безударно – строгийлИк
Что видно все от стены до стены – ВИДНО – безударно – видновсЁ Ещё раз повторю, что Е и Ё – совершенно разные по звучанию буквы – и схожесть их изображения ни в коей мере не может служить поводом для подмены буквы Ё буквой Е. Пожалуйста, уважайте язык, на котором пишете.
В доме большом при погашенном свете,
Словно десятки электросвечей,
Что были оставлены в прошлом столетии – Вот пример использования предваряющего слога, которое не портило бы строй в ином случае, но, не здесь, не в вальсе. Не слишком понятно, зачем это было введено. Напиши автор: «Тех, что оставлены в прошлом столетии (столетье)», и вальсового сбоя не было бы.
Кем-то забытым, средь прочих вещей
Тем выделяясь, что живы поныне
(мне бы, как лампам, не зная конца,
Так же гореть, пока мир не остынет), – ПОКА – безударно – покамИр
Не ослепляющих только слепца,
Дружно любуются тенью ожившей - Чёрточка не может служить заменой тире! Это – совершенно разные знаки препинания. Я бы даже сказал, что чёрточка вовсе и не является знаком препинания, поскольку несёт всего лишь служебную функцию в словесных конструкциях, а не в построении предложений.
Древним искусством с названьем ваянг,
Тихо кружась, отдыхая на крышах,
След оставляя из сотен гирлянд,
Преподнося ощущение сказки
И волшебства, в звуках вальса Бостон – ЗВУКАХ – безударно – звукахвАльса
Шелестом листьев и желтою краской
Прочно вплетается в мой сладкий сон. – СЛАДКИЙ – безударно – сладкийсОн
Как видим, здесь автор допустил аж целых пять безударностей слов, приведших к сдвигологиям. Чаще всего в текстах встречается не более одного-двух случаев авторской глухоты.
Уважаемые авторы! Очень хочется надеяться, что следующие работы, присланные на разбор, хотя бы от такого брака будут свободны.
Перейдём теперь к смысловому анализу текста.
Осень сквозь память неспешно, как ветер
Сквозь снегопад под присмотром луны, – Если убрать все нарочито нагромождённые вставки, в сухом осадке останется текст:
Осень сквозь память, как ветер сквозь снегопад, вплетается в мой сон.
Давайте попытаемся разобраться, что сквозь что имеет право на что бы то ни было.
Кстати, для того, чтобы понять смысл нагороженной перегруженной конструкции, понять, о чём хочет поведать читателю автор, мне пришлось трижды перелопачивать текст. По поводу нагромождённой конструкции поговорим позже, а пока – про СКВОЗЬ.
Итак, в предложенном опусе ОСЕНЬ вплетается в сон сквозь ПАМЯТЬ, как ВЕТЕР сквозь СНЕГОПАД.
Читатель, не зная авторских задумок, обнаруживает в прочитанных строках, что у осени есть память. Память лирического героя, который проявится лишь в последней строке местоимением МОЙ – здесь не прочитывается, поскольку на это нет ровным счётом никаких авторских намёков.
В очередной раз приходится напоминать авторам известную прописную истину, говорящую о том, что в текстах читатель воспринимает информацию строго в соответствии с порядком её подачи. Именно поэтому категорически исключается возможность применения сложных инверсий, а простые инверсии нежелательны. Здесь же – куда более запущенный случай.
У читателя возникает естественный вопрос: что может ПОМНИТЬ ОСЕНЬ? Автор на это намёков не даёт, естественных разгадок этой абстракции нет, поэтому иначе как КРАСИВОСТЬЮ воспринять эту попытку образности не получается. Серьёзный читатель, встретив красивость, чтение стихотворения прекращает.
Напомню, что КРАСИВОСТЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ ОБРАЗНОСТЬ, НЕ ИМЕЮЩАЯ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОДОПЛЁКИ.
Итак, вернёмся к авторским «СКВОЗЯМ». Если СКВОЗЬ память лирического героя осень вписываться имеет право, то в сравнительном обороте мы получаем что-то странное.
Если бы тоненькая струйка ветра пронизывала падающий снег, образ бы имел шанс состояться. Но снегопад во время ветра как такового образует с ним – единое целое. И называется это метелью или бураном. Если ветер слаб, снег, снежинки – могут в падении пронизывать переносимые ветром воздушные слои. То есть СНЕГ СКВОЗЬ ВЕТЕР, но – никак не наоборот! Ни равнина не может пронизать реку, ни стрелу – тело воина. Физически меньший объект всегда является пронизывающим. Такова семантика наречия СКВОЗЬ.
Чей строгий лик так особенно светел, – СТРОГИЙ здесь не несёт ничего.
Что видно все от стены до стены
В доме большом при погашенном свете,
Словно десятки электросвечей, – Вот скажите мне, пожалуйста, зачем автор здесь вводит понятие ЭЛЕКТРОСВЕЧЕЙ? И что под этим подразумевает? Если «свечи Яблочкова», то столетие должно быть позапрошлым, а не прошлым. И их угольные электроды рассчитаны не на годы горения, а на считанные часы. Если же современную от минибатарейки, то таких в прошлом веке ещё практически и не выпускали. А батарейки за годы работы разрядились бы до расслоения. Да и не в этом – дело. Зачем вообще автору здесь потребовалось ради светового эффекта вводить устройство, никоим образом не имеющее отношения к раскрываемой теме? Единственный приходящий на ум вариант – ради сохранения размерности строки. Впрочем, и прошлое столетие здесь появляется – мягко говоря – с потолка. Автор, видимо, не понимает, что в художественном произведении все детали текста должны играть свою необходимую и достаточную роль, быть однозначно незаменимыми на своих местах. Всё остальное – паразитирующие в текстах элементы, не имеющие никаких прав на существование.
Что были оставлены в прошлом столетии
Кем-то забытым, средь прочих вещей
Тем выделяясь, что живы поныне – Из фразы получается, что свечи живы, а прочие вещи почили в Лету. Тогда как они появляются в поле зрения лирического героя?
(мне бы, как лампам, не зная конца,
Так же гореть, пока мир не остынет), – Авторская задумка не так уж и плоха, но реализация её не удалась: ТАК ЖЕ, КАК ЛАМПАМ гореть – форма неловкая, едва ли именно ТАКОЕ горение действительно нужно лирическому герою.
Ко всему вот ведь какое дело. Свет-то в стихотворении идёт от ЛУНЫ СТРОГОГО ЛИКА. Как это может длиться века? Как СТРОГИЙ ЛИК почти неподвижной ЛУНЫ может вызывать ассоциации перемещения ламп, вызывающих движение теней и складывающихся в гирлянды? Автор слишком богато зафантазировался. Его ассоциации, даже если сделать скидку на то, что происходит это – во сне, не вытекают одна из другой.
Не ослепляющих только слепца, – Утверждение декларативное, не мотивированное ничем. А как поймём позже – вредное для сюжета, поскольку ВИДЕТЬ придётся ОСЛЕПЛЁННОМУ.
Дружно любуются тенью ожившей - Вот здесь приходится задумываться, кто же это любуются искусством? Со второй попытки понимается, что речь о тех самых пресловутых свечах.
Кстати, что значит, любоваться каким-то ИСКУССТВОМ! Живая тень – это не ТЕАТР ТЕНЕЙ, а фрагмент представления на его полотне. Поэтому и искусство ваянг здесь – паразитная приставка к оживающей тени. Вся следующая строка – абсолютно лишняя.
Древним искусством с названьем ваянг,
Тихо кружась, отдыхая на крышах, Свечи любуются тенью, кружась, отдыхая и прочая… А как это может видеть ослеплённый лирический герой?
След оставляя из сотен гирлянд, - Из каких гирлянд? Откуда они здесь?! Слово употреблено явно с целью рифмовки. Чтобы появились гирлянды, им нужно сначала из свечей сложиться, даже во сне.
Преподнося ощущение сказки
И волшебства, в звуках вальса Бостон – Опять этот Бостон с графоманскими корнями Розенбаума! Хорошо ещё, не вставлен фрагмент: «…старый дом, давно влюблённый в свою юность»! Что пришло на ум в качестве рифмы, то и вставляется. Ну, как же так можно! Неужели трудно было подобрать для рифмы незасаленный вариант!
Шелестом листьев и желтою краской
Прочно вплетается в мой сладкий сон.
Теперь попробуем дать определение увиденному и с огромным трудом прочитанному.
В литературе прошлого есть прецеденты написания длинных стихотворных фрагментов. Так, например, Шекспир велеречиво писал свои СОНЕТЫ одним предложением, НО! – ведя от начала до конца ясную строгую логику сюжета. Но в переводах на современный язык подражать языку королевских особ того времени бессмысленно, поскольку неудобно читать. Современная филология учит не затягивать предложения, а наоборот, разрывать их, если написалось длинно. Даже вордовский контрольный механизм компьютера высвечивает длинные, неудобоваримые фразы.
И нужно ли в сотый раз повторять, что литературный текст должен стремиться к разговорному гладкому и ясному логичному тексту! Иначе он не воспримется читателем так, как должен – со скоростью авторской мысли при написании. И энергетика написанного останется в бумаге.
Возьмём другой пример – из английской народной поэзии, весьма удачно переведённый Маршаком.
Вот дом,
Который построил Джек.
А это пшеница,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это веселая птица-синица,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
. . .
Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
Последняя строфа была бы странной для чтения и восприятия, если бы поэтапно автор текста не вводил один сюжетно расширяющий элемент за другим.
Врачи-психиатры говорят, что есть такое заболевание, при котором человек в разговоре не может держаться строгой логики повествования, развивая каждый обнаружившийся в его речи смысловой элемент. И продолжаться это может сколь угодно долго, пока он не вспомнит вдруг, о чём пытался высказаться изначально.
И заболевание это называется, увы, шизофренией.
Так неужели автор предложенного опуса нарочито выстроил произведение в стиле шизофреника? Спрашивается – зачем?!
Ответов не много. Либо – вариант, о котором мы здесь говорить не вправе, либо – целью автора было неуправляемое желание показаться оригинальным, не похожим на других.
Но быть непохожим хорошо, когда от этого есть польза. А насколько полезно писать, подобно речи шизофреника? Зачем же задаваться такой формой изложения?
Тот же Рыжиков постоянно учит, что не может содержание зависеть от выбранной формы, наоборот – форма произведения – функция его содержания. Иными словами, главное – не как сказать, а что сказать. И содержание само выбирает, находит нужную форму. И происходит это само собой…
Иначе получается смешно, неадекватно, если не сказать точнее...
А чтобы подобного не происходило, нужно учиться у тех, кто несуразности уже тысячи раз отсеял. Что бы осталось, к примеру, от Маяковского, если бы его поэзия осталась на уровне футуристического стихотворения «Девушка пугливо куталась в болото…»? Да ничего бы не осталось. Слава богу, образованный опытный редактор Брик и другие учителя выбили из него дурь.
Как сказал Александр Сергеевич, «Опыт – сын ошибок трудных». Нет лучшего УЧИТЕЛЯ, чем опыт многих и многих поколений, и в принципе быть не может.
Читайте литературу, учитесь у классиков, не наступайте на грабли, набившие тысячи и тысячи шишек на лбах экспериментаторов. И, глядишь, литература повернётся к вам лицом.
Справедливости ради замечу, что автор опуса неплохо слышит рифму, хоть и справляется не лучшим образом с подбором рифмующихся слов. И фантазия работает у него активно. Энергетика есть. То есть, у автора есть способности к стихотворчеству. Но их бы, подучившись, направить в нужное русло!..
И ещё нужно помнить, что стихи, не родившиеся из глубины подсознания, а ПРИДУМАННЫЕ – поэзией можно назвать с большой натяжкой, потому как поэзия начинается с сокровенной искренности.
Отзывы
Lusi23.05.2016
Читаю Ваши "разборы" и чувствую себя мелкой частичкой в огромном мире поэзии. У Вас учиться и учиться)))
ТАРАНЕНКО ВАЛЕНТИНА23.05.2016
И ещё нужно помнить, что стихи, не родившиеся из глубины подсознания, а ПРИДУМАННЫЕ – поэзией можно назвать с большой натяжкой, потому как поэзия начинается с сокровенной искренности.
Браво, мой дорогой Учитель!