О новом переводе "Одиссеи"
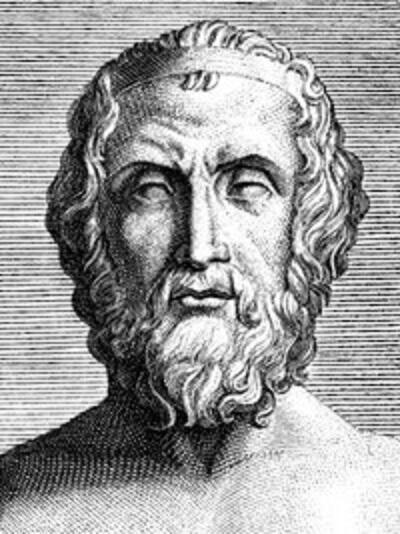
ОБ «ОДИССЕЕ», ПЕРЕВЕДЁННОЙ ЖУКОВСКИМ
Поначалу появилось желание самому написать о переводе Жуковским «Одиссеи», но, слава Богу, от этого соблазна я отказался. Лучше Гоголя я не напишу, а у Гоголя всё сказано так, что и сегодня злободневности не утеряло. Если что я и позволю себе в этом гоголевском предисловии, так только лишь комментарии и добавления – всё-таки минуло с той поры 166 лет, и, надо думать, изменения в нашей российской жизни появились немалые, и потому понадобится внести поправки как в сам перевод, так и в оценку, сохраненную для нас великим писателем.
«Появление «Одиссеи», – писал Гоголь Языкову в 1846 году, – произведёт эпоху. «Одиссея» есть решительно совершеннейшее произведение всех веков. Объём ее велик; «Илиада» пред нею эпизод. «Одиссея» захватывает весь древний мир, публичную и домашнюю жизнь, все поприща тогдашних людей, с их ремёслами, знаньями, верованьями... словом, трудно даже сказать, чего бы не обняла «Одиссея» или что бы в ней было пропущено. В продолжение нескольких веков служила она неиссякаемым колодцем для древних, а потом и для всех поэтов. Из неё черпались предметы для бесчисленного множества трагедий, комедий: всё это разнеслось по всему свету, сделалось достоянием всех, а сама «Одиссея» позабыта. Участь «Одиссеи» страшна: в Европе её не оценили; виной этого отчасти недостаток перевода, который бы передавал художественно великолепнейшее произведение древности, отчасти недостаток языка, не в такой степени богатого и полного, на котором отразились бы все бесчисленные, неуловимые красоты как самого Гомера, так и вообще эллинской речи; отчасти же недостаток, наконец, и самого народа, не в такой степени одарённого чистотой девственного вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.
Теперь перевод первейшего поэтического творения производится на языке, который полнее и богаче всех европейских языков...»
О превосходстве русского языка перед всеми другими языками не только Европы, но и мира, надобно с еще большей убедительностью говорить в наш век – век поголовной потери чувства красоты и нравственности; но и в такую гиблую пору наш язык остаётся самым богатым по своим возможностям, самым литературным, самым художественным. Недаром Хемингуэй, один из самых ярких современных писателей Запада, учился писать у русских классиков – Толстого, Чехова, Бунина, Достоевского. Сюда же отнесём тот факт, что в мире до сих пор нет достойных переводов наших мастеров слова, а вот лучших писателей мира в русских переводах у нас в изобилии. И это несмотря на то, что в целом в мире, шел и с еще большей энергией идёт сейчас отдаление людей от Бога, а значит и потеря ими первозданной нравственности, которой могли бы блеснуть перед нами Адам и Ева (даже после их грехопадения), и безусловно – многие герои Гомера.
Засоряясь ненужными иноязычными словами, обрастая канцеляризмами, жаргонным лексиконом, матерщиной, языки, и наш в особенности, за минувшие полтора века изменились в худшую сторону основательно. Но Бог дал всем языкам способность и к самоочищению – так речки очищаются родниками. Родниковые очищения языков происходят, главным образом, за счет языков разговорных, народных, которые, являясь хранилищами национальных словесностей, вдруг начинают порождать животворные словесные родники. В нашем языке такие спасительные родники забили в пушкинскую эпоху. Чтобы понять изменения его, достаточно прочесть стихи Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, Хемницера и других поэтов XVIII века. Вот вам образец, взятый наугад из Тредиаковского:
Россия мати! Свет мой безмерный!
Позволь то, чадо прошу твой верный,
Ах, как сидишь ты на троне красно!
Небо российску ты солнце ясно!
Во-первых, русский язык освободился от громоздкости в построении предложений. Во-вторых, забыл или значительно упростил трудно произносимые слова. В-третьих, привел к более простым формам окончания прилагательных. В-четвёртых, выработал стилистические закономерности в употреблении причастий и деепричастий. В-пятых, заменил церковно-славянские слова простонародными, а церковно-славянские оставил для случаев торжественно-высоких. И подобные новшества можно добавлять и добавлять.
Между тем, отметим, что когда Жуковский делал свой перевод «Одиссеи», литературный язык был еще далёк от современной нормы. И сегодня читать шедевр Гомера лишь не намного легче, чем стихи отмеченных выше поэтических праотцов. Только по этой причине я взялся за переделку перевода Жуковского, блистательного для своего времени и заметно устаревшего для нашего. Однако, редактируя тексты песен, я старался оставить нетронутым любую их часть, которая отвечала требованиям современной стилистики.
«Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, – уху его наслушаться всех лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал; нужно было мало того, что влюбиться ему самому в Гомера, но получить еще страстное желание заставить всех соотечественников своих влюбиться в Гомера, на эстетическую пользу души каждого из них; нужно было совершиться внутри самого переводчика многим таким событиям, которые привели в большую стройность и спокойствие его собственную душу, необходимые для передачи произведения, замышленного в такой стройности и спокойствии; нужно было, наконец, сделаться глубже христианином, дабы приобрести тот презирающий, углублённый взгляд на жизнь, которого никто не может иметь, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни. Вот сколько условий нужно было выполниться, чтобы перевод «Одиссеи» вышел не рабской передачей, но послышалось бы в нем слово живо, и вся Россия приняла бы Гомера, как родного!
Зато вышло что-то чудное! Это не перевод, но скорей воссоздание, восстановленье, воскресенье Гомера. Перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал...»
Впервые «Одиссею» я пытался прочитать в университете, но ни усидчивости не хватило, ни любопытства, да и как это бывает у студентов, ни самого времени. Потом еще несколько раз принимался, и, кажется, большее, что осилил – семь песен (на этом месте лежала закладка). Дочитать до конца не оказывалось, как потом понял, какой-то особой цели, которая придала бы и усидчивость, и любопытство, и время бы выкроила.
Так вот, цель такая, всеохватная, появилась после того, как, перечитывая «Выбранные места...», дошел я до письма Языкову, в котором Гоголь, с необычайной глубиной и подробностью, рассказал своим современникам, да и нам, грешным, о непреходящем значении «Одиссеи» – в целом для всех россиян и для каждого в отдельности. И хитрость тут оказалась наипростейшей. Стоило только стать на точку зрения православного христианина, знающего Христовы истины, «уже постигнувшего значение жизни», как тут тебе и интерес обострённый обнаруживался.
Свидетельствует ли «Одиссея» о всё большем отходе людей от Бога и постепенном падении человеческих нравов? Многобожие – это формальное служение богам или нечто большее? Не возврат ли в язычество нынешнее формальное богослужение, которое охватывает все большее число верующих? Как показаны Гомером герои – односторонними, добрыvи или злыми, или многогранными, как требует современная литература? Какой быт выигрывает от сравнения – архаический, эллинский, или наш, пронизанный научно-техническим прогрессом? Что больше ценилось в человеке Эллады и ценится в человеке наших дней? Есть ли в плавном сюжете «Одиссеи» элементы детектива или это уже изыскания позднейших времён?
Словом, целая вереница вопросов возникает у читателя православного и далеко не последний из них – даст ли мне какой-то прок чтение книги, созданной более 4000 лет назад? И, к великой радости своей, находишь положительный ответ на это в письме Гоголя, а в последствие и в самой «Одиссеи». Да притом такой разветвлённый ответ, который позволил нашему ведущему классику разместить его в виде весьма содержательной статьи.
«По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обстановились так, чтобы сделать появление «Одиссеи» почти необходимым в настоящее время: в литературе, как и во всём, – охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких непереварившихся идей, нанесённых политическими и прочими броженьями, стали значительно упадать; только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои. Словом, именно то время, когда слишком важно появленье произведенья стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь с отчётливостью изумительной и от которого повевало бы спокойствием и простотой почти младенческой».
Наш век значительно хуже гоголевского. Если в ту пору устали «как очаровываться, так и разочаровываться» тогдашнеми литературными произведениями, и потому было «слишком важно появленье произведенья стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь с отчётливостью изумительной и от которого повевало бы спокойствием и простотой почти младенческой», то в наш почти уже полностью развращённый век появление такого произведения не то чтобы «слишком важно», а в высшей степени необходимо.
Теперешняя пишущая молодежь пустилась в такое «новаторство», в такой «модернизм», что ей совсем ни для чего не нужно читать и перечитывать не только Гомера, но и Пушкина и Гоголя, Лермотнова и Тургенева, Блока и Достоевского. Им у них нечему учиться, поскольку в и слове, и в сюжете, и в чувственности, и во всех других показателях высокой литературы они оставили далеко позади себя литературных праотцов и праматерей, и теперь этим предкам ничего не осталось больше, как завидовать более удачливым наследникам их былой славы. Нынешние «суперталанты» пишут либо мат на мате, либо образ на образе, причем, более всего ценится ими, если читатель ничегшошеньки не поймёт из ими написанного.
«Одиссея» произведет у нас влияние, как вообще на всех, так и отдельно на каждого...»
«Рассмотрим то влияние, которое она может у нас произвести вообще на всех. «Одиссея» есть именно то произведение, в котором заключились все нужные условия, дабы сделать ее чтением всеобщим и народным. Она соединяет всю увлекательность сказки и всю простую правду человеческогопохождения, имеющего равную значимость для всякого человека, что бы он ни был. Дворянин, мещанин, купец, грамотей и неграмотей, рядовойсолдат, лакей, ребёнок , начиная с того возраста, когда ребёнок начинает любить сказку, ее прочитывают и выслушивают без скуки. Обстоятельство слишком важное, особенно, если примем в соображение то, что «Одиссея» есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение и что единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку....»
«Греческое многобожие не соблазнит нашего народа. Народ наш умён: он растолкует, не ломая головы, даже то, что что приводит в тупик умников. Он здесь увидит только доказательство того, как трудно человеку самому, без пророков и без откровения свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога в истинном виде, и в каких нелепых видах станет он представлять себе лик Его, раздробивши единство и единосилие на множество образов сил. Он даже не посмеется над тогдашними язычниками, признав их ни в чем не виноватыми: пороки им не говорили, Христос тогда не родился, апостолов не было...»
«Нет, народ наш скорей почешет у себя в затылке, почувствовав то, что он, зная Бога в Его истинном виде, имея в руках уже письменный закон Его, имея даже истолкователей закона в отцах духовных, молится ленивее и выполняет долг свой хуже древнего язычника. Народ смекнёт, почему так же верховая сила помогла и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, несмотря на то, что он, по невежеству, взывал к ней в образе Посейдонов, Кронионов, Гефестов, Гелиосов, Киприд и всей вериницы, которую наплело играющее воображение греков. Словом, многобожиеоставит он в сторону, а извлечёт из «Одиссеи» то, что ему следует из неё извлечь, -- то, что ощутительно в ней видимо всем, что легло в дух её содержания и для чего написана сама «Одиссея», то есть, что человеку везде, на всяком поприще предстоит много бед что нужно с ними бороться, -- для того и жизнь дана человеку, -- что ни в каком случае не следует унывать, как не унывал и Одиссей, который во всякую трудную и тяжкую минуту обращался к своему милому сердцу, не подозревая сам, что таковымвнутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуту бедствий совершает вский человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге. Вот то общее, тот живой дух её содержания, которым произведёт на всех впечатление «Одиссея»...»
«Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальства, несмотря на ограниченные пределы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта балгость и благодушное безгневие старцев, это радушное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку, как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая ысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас существа и что нчего не может он сделать своими собственными силами, словом – всё, всякая малейшая черта в «Одиссее» говорит о внутреннем желании поэта всех народов оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства в то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядков, когда еще никаими гражданскими и письменными постановленьями не были определены отношения людей, когда люди еще много не ведали и даже не предчувствовали и когда один только болжественный старец всё видел, слышал, соображал и предчувствовал, слепец, лимённый зрения, общего всем людям, и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди!..»
«И как искусно сокрыт весь труд многолетних обдумываний под простотой самого простодушнейшего повествования!.. Можно было почесть всё за изливающуюся без приготовления сказку, если бы по внимательном рассмотрении уже потом не открывалась уди\ввительная постройка всего целого и порознь каждой песни. Как глцпы немецкие умники, выдумавшие, будто Гомер – миф, а всё творение его – народные песни и рапсодии!..»
«Но рассмотрим то влияние, которое может произвести у нас «Одиссея» отдельно на каждого. Во-первых, она подействует на пишущую нашу братию, на сочинителей наших. Она возвратит многих к свету, проведя их, как искусный лоцман, сквозь сумятицу и мглу, нанесённую неустроенными, неорганизовавшимися писателями. Она снова наполнит нам всем, в какой бесхитростной простоте нужно воссоздавать природу, как уяснять вусякую мысль до ясности почти ощутительной, в каком уравновешенном спокойствии должна изливаться речь наша. Она вновь даст почувствовать всемнашим писателям ту старую истину, которую век мы должны понить и которую всегда позабываем, а именно: по тех пор не приниматься за перо, пока всё в голове не установится в такой ясности и в таком порядке, что даже ребёнок в силах будеть понять и удержать всё в памяти...»
«Еще более, чем на самих писателей, «Одиссея» подействует на тех, оторые еще готовятся в писатели и, находясь в гимназиях и университетах, видят перед собой еще туманно и неясно своё будущее поприще. Их она может навести с самого начала на прямой путь, избавив от лишнего шатания по кривым закоулкам...»
«Во-вторых, «Одиссея» подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она освежит критику. Критика устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горя бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, понесла дичь. По поводу «Одиссеи» иожет появиться много истинно дельных критик, те более что вряд ли есть на свете другое произведение, на которое можно было бы взглянуть с таких могих сторон, как на «Одиссею»... критики не будут ничтожны. Для них потребуется много перечесть, оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить; пустой верхогляд не найдёт даже что и сказать об «Одиссее».
«В-третьих, «Одиссея» своей русской одеждой, в которую облёк ее Жуковский, может подействовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого из наших писателей, не только у Жуковского во всём, что ни писал он доселе, но даже у Пушкина и Крылова, которые несравненно точней его на слова и выражения, не достигала до такой полноты русская речь. Тут заключались все её извороты и обороты во всех видоизмененьях. Бесконечно огромные периоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и периоды сжатые, краткие, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы речь, у него так братски улегаются друг возле друга, все переходы и встречи противуположносте й совершаются в таком благозвучии, всё так и сливается в одно, улетучивая тяжёлый громозд всего целого, что, кажется, как бы пропал вовсе всякий слог и склад речи; их нет, как нет и самого переводчика. Наместо его стоит перед глазами, во всемвеличии, старец Гомер, и слышатся те величавые, вечные речи, которые не принадлежат устам какого-нибудь человека, но которых удел вечно раздаваться в мире...»
«Здесь-то увидят наши писатели, с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство уменьем поместить его в надлежащем месте и как много значит для такого сочинения, которое назначается на всеобщее употребление и есть сочинение гениальное, это наружное благоприличие, эта внешняя отработка всего: тут малейшая соринка заметна и всем бросается в глаза. Жуковский сравнивает весьма справедливо эти соринки с бумажками, которые стали бы валяться в великолепно убранной комнате, где всё сияет ясностю зеркала, начина от потолка до паркета: всякий вошедший прежде всего увидит эти бумажки, именно потому же самому, почему бы он их вовсе не приметил в неприбранной, чистой комнате...»
«В-четвёртых, «Одиссея» подействует в любознательном отношении, как занимающихся науками, так и на не учившихся никакой науке, распространив живое познание древнего мира. Ни в какой истории не начитаешь того, что отыщешь в ней: от нее так и дышит временем минувшим; древний челоек, как живой, так и стоит перед глазами, как будто ещ вчера его видел и говорил с ним. Так его и видишь во всех его действиях, во все часы дня: как приготовляется он благоговейно к жертвоприношению, как беседует чинно с гостем за пировою кратерой, как одевается, как выходит на площадь, как слушает старца, как поучает юношу; его дом, его колесница, его спальня, малейшая мебель в доме, от подвижных столов до ременной задвижки у дверей, -- всё перед глазами, еще свежее, чем в отрытой из земли Помпеи...»
«Наконец, я даже думаю, что появление «Одиссеи» произведёт впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время, когда таинственною волей Провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот енудовлетворения, голос неудовольствя человеческого на всё, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя. Когда всем, наконец, начинает становиться подозрительным то совершенство, на которое возвели нас наша новейшая граждансвтенность и просвещение; когда слышна у всякого какая-то безотчётная жажда быть не тем, чем он есть, может быть, происшедшая от прекрасного источника быть лучше; когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых еще темно услышанных идей, слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действия, как в массах, так и в отдельно взятых особях; словом, в это именно время «Одиссея» поразит величавою патриархальностию древнего быта, простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритуплённой, младенческою ясностью человека. В «Одиссее» услышит сильнйы упрёк себе наш девятнадцатый век, и упрёкам не будет конца, по мере того как станет он поболеевсматриваться в нее и вчитываться...»
«Что может быть, напрмер, уже сильней того упрёка, который раздастся в душе, когда разглядишь, как древний человек, с своими небольшими орудиями, со всем несовершенством своей религии, дозволявшей даже обманывать, мстить и прибегать к коварству для истребления врага, с своею непокорной, жестокой, несклонной к повиновению природой, с своими ничтожными законами, умел, однако же, одним только простым исполнением обычаев старины и обрядов, которые не без смысла были установлены древними мудрецами и заповеданы передаватьяс в виде святыни от отца к сыну, -- одним только простым исполнением этих обычаев дошёл до того, что приобрёл какую-то стройность и даже красоту поступков, так что всё в нём сделалось величаво с ног до головы, от речи до простого движения и даже до складки платья, и кажется, как бы действительно слышишь в нём богоподобное происхождение человека? А мы, со всеми нашитми огромными средствами и орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, переменчивой нашей природой, с религией, которая именно дана нам на то, чтобы сделать из нас святых и небеснылюдей, -- со всеми этими орудиями, умели дойти до какого-то неряшества и неустройства как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными, мелкими, от голы до самого платья нашего, и, ко всему еще в прибавку, опротивели до того друг другу, что ен уважает никто никого, даже не выключая и тех, которые толкуют об уважении ко всем».
«Словом, на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства «Одиссея» подействует. Много напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себе человечество, как своё законное наследство. Многие над многим призадумаются. А между тем многое из времен патриархальных , с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесётся невидимо по лицу русской земли. Благоухающими устами поэзии навевается на души то, чего не внесёшь в них никакими законами и никакой властью!»


