Сын Хапу
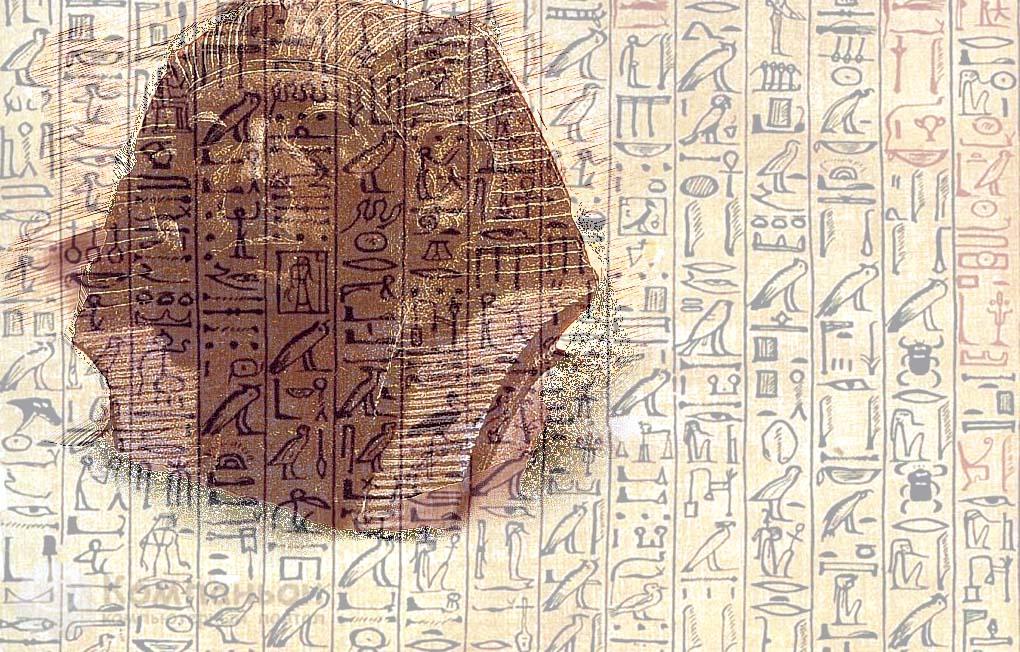
[Фрагмент повести «Конец Лабиринта»]
Я обману тебя, время, и ты мне поможешь.
Время ведь, как человек, оно любит обманы...
Как обмануть мне и стиснуть в тугую спираль
Нила прохладу и жаркую зелень Файюма?
Петептах из Фив. Утренний гимн
Между тем, дела у господина Фариота шли в гору, и не было причин полагать, что дела эти пойдут иначе. Властитель Обеих Земель, Царь Египта Аменхотеп III (да пребудет с ним любовь всех богов земли и неба) возводил в то время храм Владыке Солнца, земли и небес, богу Амону, то есть, совершал главное дело своей жизни. Ибо в стране Египетской слава царей прирастала не ратными делами, а высотой и величием храмов и гробниц. Неотвязный зуд хоть как-то войти в историю, присущий едва ли не каждому пятому смертному, у царей обретает безумное стремление стать богом. Что отличает царя Египта от бога? Да ничего, в сущности. Ничего, кроме одной гадкой мелочи – смерти. Царям, всем без разбору, предстоит, увы, банально помереть, почить, протянуть ноги, сдохнуть. Извечная тщета – обмануть вечность, отыскать щёлочку и протиснуться-таки сквозь её глухую стену... Верили ли цари, что мумии, эти человекоподобные чурки, набитые травами и смолами, впрямь будут наслаждаться, пусть иною, но жизнью, смеяться, пить вино, совокупляться, мыслить? Полагаю, не столь уж глупы они были, эти цари. Во всей этой пышной тщете – отчаяние и страх. Чем выше вознесён человек, тем более боится он темноты...
Итак, царь Египта строил храм. Хотя навряд ли имел хоть отдалённое представление о том, как идут строительные работы. Всеми делами по строительству, да и не только по строительству, ведал человек, которого именовали Сын Хапу.
Я уже упоминал о том, что благоденствием своим Фариот был во многом обязан своей любвеобильной супруге. Она была старшей дочерью фиванского купца, известного не столь своим богатством и предприимчивостью, сколь своим дальним родством с этим самым Сыном Хапу, государевым писцом. Полное его имя упоминалось редко, ибо был он по странному совпадению тёзкой царя Египетского. Он был царским писцом, хотя, конечно, давно уже не прикасался тростниковой палочке и папирусу. Капризом судьбы, этот человек, весьма невысокого происхождения, стал главным советником царя Египта.
Огромная власть была в его руках, но то была власть без славы, богатство без золота и роскоши, жадность без вороватости, ум без обаяния.
На время больших строительных работ, то есть в пору разлива Нила, когда спадала жара, Сын Хапу выезжал со свитой из царского дворца в Мальгатте в Луксор. Свита была многочисленной, но, по моему разумению, совершенно никчёмной. То было нелепое скопище нарядно одетых, трусливо-высокомерных и в большинстве своём ни к чему не пригодных, праздных людей (я, кажется, уже упоминал, что в стране египетской челядь одевалась куда нарядней, чем хозяева). Однако он непременно брал их с собою, причём без всякого принуждения со стороны. Да и кто мог принудить главного советника Царя Египта!
Старый пройдоха Эгиал сказал как-то: «Человек с умным лицом может оказаться глупцом. Но человек с глупым лицом умным не может быть никогда. Ежели у человека глупое лицо, так он, стало быть, натуральный дурак. Может быть, за редким исключением». Так вот, Аменхотеп Сын Хапу и был тем самым исключением. Он был неказист, косноязычен, туговат на ухо, мелочен и суеверен до идиотизма. Был сварлив и злобен, мог собственноручно жестоко избить палкой провинившегося, причём делал это часто. Однако никого не отправил Сын Хапу в темницу или на казнь. Он мог, к примеру, выслушать доклад старшего зодчего и после долгой, паузы разразиться невразумительной богословской дребеденью о вящей славе Амона-Ра, или о мудрости и величии царя Аменхотепа III, или о необходимости разумного воздержания… И лишь в конце этой словесной трухи произнести два-три слова, из коих явствовало, что он все понял из доклада (кстати, доклады тоже не отличались лаконичностью). А потом еще два-три слова, из которых ясно было, что теперь этому зодчему надлежит делать.
Именно таким я увидал в первый раз воочию прославленного Сына Хапу. Великий сановник соизволил лично принять моего господина, тот же, в свою очередь, соблаговолил взять меня с собой на приём.
Присутствовал я там недолго, уже через несколько мгновений был отослан прочь недоуменным кивком. Я вышел, неловко пятясь с таким счастливым лицом, что вызвал еще большее недоумение.
«Остался ли доволен Мудрейший?» – почтительно спросил я Фариота вскоре после того, как он воротился. Спросил и тут же осознал бестактность вопроса, ибо по цвету лица хозяина и по влажному лбу ясно было, что Мудрейший остался не вполне доволен.
«На то он и мудрейший, чтоб никогда и ничем не быть довольным, буркнул он в ответ и тут же, усмехнувшись, добавил: – Это, видишь ли, даже хорошо. Куда хуже иметь дело с теми, кто всегда всем доволен…»
* * *
Я полагал, что навряд ли еще раз увижу прославленного писца, поскольку дистанция меж нами не поддавалась исчислению. Хотя я давно уже не был тем худощавым, чумазым подростком-горшечником. Достаточно сказать, что чопорно-самодовольный слуга Хомаат, доставивший меня в то памятное утро во двор господина Фариота, был уже несколько лет, как в полном моём услужении, причём обязанности свои исполнял с усердием.
Но Сын Хапу был на той высоте, с которой чумазый горшечник и подручный писец преуспевающего купчика, да и сам купчик видятся равно ничтожными. И все же нам довелось-таки встретиться.
Как-то гонец сообщил о том, что судно, шедшее с Кипра с грузом медных слитков, крепко село на мель чуть выше дельты Нила. Вдобавок, во время ночной грозы в него ударила молния, начался пожар, судно дало течь и наполовину затонуло в илистой протоке. Груз оставался неразворованным, но не от законопослушности, а только лишь от суеверия, ибо все пораженное молнией несёт на себе проклятие Амона. Однако бесконечно полагаться на богобоязненность было небезопасно, потому Фариот, а он был совладельцем судна, поспешно отбыл на место. Я, естественно, должен был следовать за ним, но в самый последний момент, вдруг получил повеление остаться в Луксоре.
«Сын Хапу повелел, чтобы ты остался с ним, – кисло улыбнулся Фариот. – Он сказал: в дельте тебе понадобятся не писцы, а носильщики».
Когда я спросил его напрямую, к чему я понадобился Мудрейшему, он лишь развёл руками:
«Как-то он посмотрел мои отчёты и спросил меня между делом, как звать моего писца. Я назвал твоё имя. Вот и все…»
* * *
День Сына Хапу начинался едва ли не раньше рассвета. После омовения – обильный завтрак. Затем – работа, без перерыва, до позднего вечера. Затем – ужин, столь же обильный, как и завтрак, но, в отличие от него, сдобренный немалым количеством крепкого финикового пива.
Дело моё заключалось в том, что я либо зачитывал ему поминутно поступающие донесения, отчёты, письма, прошения, жалобы, доносы, либо писал под его диктовку. Слушал он, как мне казалось, совершенно невнимательно, порой задрёмывал, иногда даже легонько всхрапывал, однако стоило мне деликатно прекратить чтение, как он немедленно вскидывался и вперял в меня воспалённые, негодующие глазёнки.
Кстати, у великого сановника был, разумеется, свой писец, который на эти несколько дней был как бы отстранён от дел. Звали я, насколько я помню, Эм-Захи. Всякий раз, проходя мимо, он взирал на меня с такой утробной ненавистью, что было, право, не по себе. Видимо, он смертельно боялся, что я прислан ему на замену. Ненависть и страх были тем ощутимей, чем более он силился их скрыть. К слову сказать, опасения эти, хоть и имели под собою почву, так и не оправдались…
Кажется, на третий день, покончив наконец с делами, Сын Хапу вдруг велел почитать ему на ночь. Просто почитать. Папирус тот, помнится, назывался так: «Вторая любовная песнь царицы Хатшепсут». Состояла песнь из трёх частей. Первая являла собою многословное и натуралистическое описание прелестей великой царицы. Вторая – восторженный гимн неутомимой мужской силе её счастливого возлюбленного. Третья же бурно и красочно описывала соитие, да в таком головокружительном многообразии, что я при чтении делал невольные паузы, силясь умозрительно осмыслить прочитанное.
Сын Хапу внимал с таким твердокаменным вниманием, словно я зачитывал ему отчёт о возведении очередной храмовой анфилады.
– Скажите, великий господин, – осторожно прервал я молчание, когда закончил читать, – доподлинно ли известен автор этой песни?
– Доподлинно известно, что создал её человек, подписавшийся именем Хатшепсут. Писала ли её великая царица? Может, и писала. Царица была великой во всем, в том числе, надо полагать, и в этом. Скорее всего, однако, нет. Стиль письма указывает, что писано это было не полтораста лет назад, а недавно. Очень может быть, что этот виршеплёт по сей день здравствует…
– Великий господин не любит стихотворцев?
– За что же любить безбожных бездельников? – удивился сановник.
– Но мне показалось, вы любите стихи…
– Э, причём тут стихи! Если ты любишь мясо, ты не обязан любить также мясников и раздельщиков туш. И довольно об этом. Подай-ка лучше свиток. Вон тот, на третьей полке сверху. Да не тот, болван. Я же сказал, с жёлтой тесьмой! Это, по-твоему, жёлтая? Ну, значит, не жёлтая, а… Посмотри-ка рядом с ним. Нет, похоже, мне придётся размозжить тебе башку, проклятый идиот! Последний раз говорю: подай мне свиток. Ну конечно этот, тебе непременно нужно было вывести меня из себя.
– Мне почитать его для вас? – спросил я, переводя дыхание.
– Почитать? – Сын Хапу разразился глумливым смехом. – Боюсь, тебе это не по зубам. Одного усердия тут мало. Тут, надобны мозги. Ступай…
На следующий день Сын Хапу, в очередной раз задремав от моего монотонного чтения, вдруг поднял голову и сказал, скосив на меня подслеповатые, насмешливые глаза:
– А ну-ка скажи, щенок, небось, сильно обиделся на меня вчера?
– Могу ли я посметь! – я протестующе замахал руками.
– Еще как можешь, сукин сын! – Сын Хапу едва вновь не вышел из себя. – Ты даже забыл придать своей роже благочестивую гримасу. Глаза у тебя были что надо. «Дать бы тебе разок по лбу», – вот что говорили твои критские глазёнки. Ты ведь с Крита?
– Нет, великий господин. С Афин.
– Это совершенно одно и то же! Так вот, возьми тот самый вчерашний свиток и прочти его мне. Умоляю. Ежели прочтёшь, клянусь светлым ликом Ра, я посажу тебя на свое место, а сам пойду пасти свиней. Итак?
Я развернул папирус и взгляд мой, как и следовало того ожидать, с безнадёжностью увяз в тесной сутолоке знаков, штрихов, рисунков, схем, линий. Все увиденное было, как мне казалось, лишено смысла, вызывало необъяснимое раздражение и еще более необъяснимо сильную тягу. Никогда ранее мои познания и ум, о которых я как-то незаметно успел составить достаточно лестное представление, не были посрамлены так безжалостно.
– Ну так как? – Сын Хапу вновь скосил на меня свои насмешливые птичьи глаза. – Понял ли ты хоть что-нибудь?
– А вы? – не выдержал и спросил я с поразившем меня самого угрюмым озлоблением.
– Я? – Сын Хапу поначалу опешил и вспылил по обыкновению, но вдруг замолк на полуслове. – В общем – да… В общем.
– В общем – это значит почти все
– В общем – значит, что я понял, о чем идет речь. Не больше. Тебя удивляет, почему все это словно бы нарочно запутано? Видишь ли, мы, египтяне, как известно, законопослушны и богобоязненны. Многим кажется, что даже чересчур. Однако набожность и желание разбогатеть редко уживаются друг с другом. А царские усыпальницы времён четвертой династии были так нашпигованы золотом, что и десятой доли хватило б, чтобы поколебать любую веру. Тем более, у богатого человека всегда есть возможность задобрить обиженных богов. Потому-то строители запутывали свои отчёты, чтобы не искушать соплеменников...
– А что это за папирус, если не…
– Не секрет. Это папирус времён строительства усыпальницы Аменемхета IV. Составлен главным дворцовым зодчим по имени Петептах. И не нужно делать вид, что ты знавал, кто это такой, да просто подзабыл. Не знал и не узнаешь никогда. И никто не узнает, можешь поверить. Зато слава фараона Аменемхета IV будет и впредь немеркнущей. Такова жизнь. И не спрашивай меня, справедливо ли это. Из всех эфемерностей самой большей эфемерностью является справедливость. Один из секретов долголетия таков: никогда не задавать себе вопрос – справедливо ли это?..
– Могу ли я взглянуть на папирус... подольше? – спросил я с тихим почтением.
– Можешь взглянуть.
– Могу ли я перерисовать этот папирус? – спросил я с еще более тихим почтением.
– Нет, не можешь, – ответил он быстро и чеканно, словно заранее знал, что я ему скажу. – Положись на память. Что сможешь запечатлеть, сочти. Что не сможешь, – сочти, что того просто не было.
– Отчего же нельзя переписать? – продолжал я упорствовать.
– Раз они были забыты, то так было угодно богам. Ты ведь не станешь оспаривать их мудрость? Боги подарили людям знания, когда сочли надобным, и отобрали их, когда решили, что в них более нет нужды. Всё просто, удивляюсь, что тут непонятного.
– Но может быть, великие боги…
– … призвали тебя сюда, чтобы ты тут покумекал, похозяйничал, во всем разобрался, и вернул людям утраченное, это ты хотел сказать? Нет? Надеюсь, что нет, потому что иначе я бы тебя на месте прибил палкой. Однако уже поздно, поди-ка прочь. Завтра можешь прийти сюда и взглянуть на этот папирус, как ты говоришь, подольше. Несколько дней свиток будет в твоём распоряжении. Но только этот! И не вздумай переписывать. Я не шучу, запомни. Обманывать меня не нужно, пожалеешь, что родился на свет.
Прямо на выходе я столкнулся с Эм-Захи. Судя по отсутствующему выражению лица, он подслушивал, а судя по тому, сколь утончённо радушно он со мной поздоровался, последние слова хозяина привели его в полный восторг…
* * *
Утром следующего дня я явился в библиотеку. Эм-Захи крутился неподалеку от двери. Узрев меня, он удивился, в целомудренно-бездумном взгляде его было даже нечто похожее на уважение. Он-то был убеждён, что после вчерашних слов господина я близко не подойду к хранилищу папирусов. Ясно было, однако, что в бдительный присмотр за мною он непременно вложит всю свою плоскую, бесхитростную душу.
Тот, вчерашний папирус лежал в стороне от других, мудрейший при всей свой пунктуальности не вернул его на подобающее место на полке. Это, видимо, означало: вот то, к чему тебе дозволено прикоснуться, от прочего же держись подальше. Тугой, полновесный свиток одновременно и манил к себе, и отталкивал прочь. Отталкивал, ибо страшно было вновь ощутить то унизительное, тоскливое чувство собственного бессилия и заурядности.
Под вечер я покинул библиотеку в злобном унынии, с намерением никогда более сюда не приходить. По крайней мере, по своей воле. Однако вспомнил я об этом решении лишь следующим утром, когда уже восседал на кипарисовой скамье библиотеки. Вспомнил и тотчас забыл.
Чего же ты добился, хитроумный Петептах?! Пирамида, выстроенная тобою, пуста, как лоно потаскухи, прах царя выброшен из саркофага, как куль с тряпьём. Все твои ухищрения обойдены с оскорбительной лёгкостью. Ты был мудр, но и твоей мудрости не достало, чтобы понять простую вещь: никакой гений не в силах остановить мародёра...
* * *
Первый проблеск отгадки явился ночью. Я уже засыпал, мысли уже являли собою слипшийся ком, когда в этом ленивом, замкнутом бреду полыхнула вдруг искорка, которая, наверное, показалась бы дикой и несуразной, будь я в бодром рассудке. Но именно потому, что пребывал я сумбурном полусне, я и не отогнал её прочь. Однако слишком уж все просто... И тут – короткое и ослепительное озарение, я вдруг увидел целый фрагмент папируса во всей ясности, каждое слово, каждый иероглиф были неправдоподобно понятны...
Я уснул лишь тогда, когда ясно уверился, что случайная искорка не сгинет безвозвратно в темной трясине сна.
Наутро у врат хранилища папирусов меня встретил изнемогавший от нетерпения Эм-Захи. Едва завидев меня, он тут же торжествующе сообщил, что допустить меня в хранилище он не может, потому что вышел какой-то срок. Какой именно срок, он сообщить не смог, хоть и силился. Толковать с ним о каком-то озарении было смешно. Я решил не доставлять ему такого удовольствия и сказал что-то вроде следующего: «Не уразумею, почтенный, о каком сроке ты говоришь. Я здесь по распоряжению Мудрейшего. И ты об этом знаешь не хуже меня. Хочешь знать, что сделает Мудрейший, если узнает, что ты хотел мне помешать? Мне думается, в лучшем случае он перешибёт тебе копчик, а в худшем – оторвёт тебе удилище...»
Это подействовало. Эм-Захи вскорости ушёл. Однако я понял, что моему безраздельному владычеству в библиотеке подходит конец.
До вечера мне впрямь никто не мешал. Я был один, если не считать тени Петептаха, его нетленного Ка. Мы с ним славно понимали друг друга. Во всяком случае, я его понимал. Я был учтив и почтителен, однако при разговоре уже не задирал голову вверх...
Вечером за мною прислал Сын Хапу. Это было как раз тогда, когда я приступил к последней, самой объёмной части свитка. Плотный, тяжёлый рулон носил еще вполне свежие следы царской печати. Это, между прочим, означало, что читать его запрещено смертному. Сын Хапу был велик, мудр, но, однако, как ни говори, смертен. Ослушался ли он воли Владыки Земель, и если да, то почему позволил мне прикоснуться к свитку. По рассеянности? Он был не настолько рассеян. Отнюдь не настолько...
А озаглавлен свиток был не по-египетски скромно: «Поминальный храм царя Египта Аменемхета III»... И я знал, о чем идет речь.
Этот поминальный храм вместе с двойной усыпальницей был как раз там, в Шедете, граде Крокодильем, он был даже виден из окна нашего дома. Жители Шедета и вообще всего Файюма недолюбливали покойного Аменемхета III, который недостаточно, по их мнению, чтил их любимого крокодильего бога Себека. Красивая когда-то пальмовая роща с аллей сфинксов, искусственными озёрами и даже водопадами была запущена. А про храм, который тамошние критяне прозвали Лахарес, ходили тёмные слухи. Грабители, обчистившие все возможные усыпальницы, боялись близко к нему подходить. И не от суеверия. «Горе непосвящённому», – так гласили надписи на всех его четырнадцати дверях. Храм и впрямь был неиссякаемым чудом для посвящённых и беспощадной ловушкой для всех прочих. Человек, которого ведут по храму, по его бесконечным комнатам, залам, галереям, не устанет восхищаться им, и ему в голову не придёт, что, оторвись он от провожатого хоть на один пролёт, чарующая красота быстро обернётся кошмаром. «Бесконечность не обязательно должна быть большой, – писал Петептах, – возможно сотворить бесконечность, которая уместится за пазухой. Я мечтаю увековечить славу Амона и любимого чада его, Аменемхета III, создав воплощённый в камне макет Вселенной...»
* * *
– Завершил ли ты труды в библиотеке? – спросил он, когда отправил с моей помощью несколько писем.
– Да, мудрейший господин. Однако, если бы мне было позволено...
– Не будет позволено. Из всех излишеств самое вредное – излишнее знание.– Затем скосил на меня насмешливо прищуренный глаз и спросил, помолчав: – Так ты понял хоть что-нибудь?
Что мне было ответить? «Нет» – означало бы порцию насмешек, а так же то, что двери библиотеки для меня надолго закрылись бы. «Да» – означало бы, что двери библиотеки для меня закрылись бы навсегда. Я сказал «нет», глянув ему в лицо честным взором преданного тупицы. Не уверен, что Мудрейший мне поверил. Однако, был вознаграждён тем, что получил разрешение провести остаток вечера в библиотеке. За эту награду я стерпел бы оскорбления и побои...
Весь этот остаток я провёл в лихорадочном оцепенении. Чем больше размышлял я над тем, что замыслил, тем в больший ужас меня мой замысел приводил, и всё более убеждался я, что поступлю именно так, как замыслил. В какой-то момент я решил от замысла отказаться, на мгновение стало спокойнее, но на следующее же мгновение от этого спокойствия повеяло такой тоской, что, я понял, что сделаю то, что затеял. А в конце, слабо соображая, что я делаю, взял тот последний, запретный свиток, кукольно-деревянными движениями запихнул его себе подмышку и в том же полуобморочном состоянии покинул библиотеку. Покинул, как потом выяснилось, навсегда...
За ночь я полагал переписать папирус, а утром каким-то еще не придуманным образом возвратить его на место.
Однако едва я вернулся к себе, в комнату, как туда, смертельно меня перепугав, ворвался мальчишка-посыльный и сообщил, что господин Фариот рано утром уплывает на корабле куда-то очень далеко, а вот куда, он не знает, то есть знал, но, пока бежал, забыл. И что мне надлежит немедля собираться вместе с ним. «Рано утром!» – возбуждённо верещал посыльный, как будто именно это для него имело какое-то значение. Для меня же это имело значение вполне определённое: ежели мне за ночь не удастся пробраться в библиотеку и вернуть проклятый свиток на место, то возвращаться обратно из дальних странствий едва ли имело смысл. Мне вряд ли удастся убедить судей, что государеву печать на свитке сломал не я, а кто-то другой. Уж не для того ли ты мне подбросил эту соблазнительную наживу, хитроумный Сын Хапу?..
Ночные бдения кончились ничем, дверь в библиотеку была закрыта. А неподалеку, кажется, маячила бледная, ликующая тень Эм-Захи.
Итак, чуть свет я был уже на палубе корабля, носящего название «Обласканный богами». Со мною был всегдашний мой сундучок с письменной утварью и всякого рода повседневным барахлом. А на самом его дне покоился тот сгубивший меня свиток. Тогда я еще и не подозревал, до какой степени этот воистину проклятый свиток сгубил мою жизнь...
* * *
О том, куда держал путь «Обласканный богами», я узнал от господина Фариота. Обычно воздерживавшийся от вина в утренние часы, он был сильно навеселе. В то утро дул сильный попутный ветер, судно шло вниз по течению своим ходом, без гребцов.
– Отчего же не спросишь, юный писец, куда идет корабль? – громко выкрикнул он, глумливо гримасничая. – Или у тебя есть заботы поважней?
– Куда же идет судно? – учтиво поинтересовался я, хотя у меня впрямь были заботы поважнее.
– На Крит, юный писец, на Крит! – господин Фариот вдруг расхохотался и ударил кулаком по поручню. – Как раз туда, откуда я родом. Только не говори о радости встречи с родиной, а то я тебя выброшу за борт, крокодилы в здешних местах любят завтракать юными писцами.
– У вас, должно быть, неприятные воспоминания о Крите? – поинтересовался я с деревянным участием.
– Боюсь, что да! Мне немного неприятно вспоминать, как город Кидонию, в котором я родился, сожгли люди Миноса, нынешнего критского царя. Еще мне немного неприятно вспоминать, как заживо сгорел мой отец, как посадили на кол троих моих братьев, а мать и младшая сестра прошли через полсотни одичавших головорезов, причём, самые последние из них терзали их уже мёртвых. Кто-то из горожан донёс царю, что именно в нашем доме провёл последние две ночи Сарпедон, его единоутробный братец, будь прокляты оба. Теперь мне предстоит чинно вести с этим самым царём переговоры, обмениваться дарами, говорить о нерушимых связях... Это надо же! – он вновь с силой ударил по поручню, – во всем великом Египте не нашлось для этого другого человека, кроме меня. Неиссякаема мудрость царя, но мне, слабому очень уж трудно её понять... Может быть, ты её поймёшь, хитроумный Дедал?
Я молчал. Молчал, потому что при всей преданности хозяину, в голове моей ютилась одна мысль: скоро наступит ночь, все улягутся спать. И вот тогда я смогу запереться в каюте, зажечь светильник и вытащить тайный свиток, по милости которого я вновь лишился дома, всего нажитого, вновь стал песчинкой, кувыркающейся на ветру в пустыне, но, клянусь, ни на миг не сожалел об этом.
«Обласканный богами», между тем, приближался к Криту...


