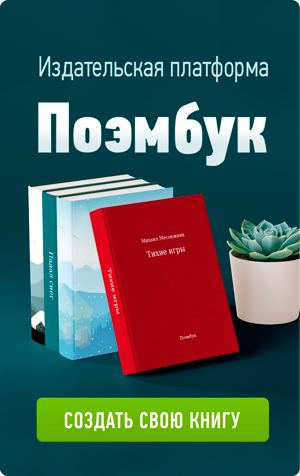21. 2-4: §2. "Педиатры". §3. "Мамука". §4 "Свадьба в Мали... Белозёрихе". Глава двадцать первая: "Спортлагерь". Из книги "Миссия: Вспомнить Всё!"
Глава двадцать первая "Спортлагерь"
§2. «Педиатры»
На втором курсе (в ту самую смену, когда я наконец познал женское нутро) меня поселили в домик с тремя будущими педиатрами-четверокурсниками.
Ребята на 4-ом курсе становятся матёрыми студентами, знающими все входы и выходы, умеющими «на раз» сдать экзамен на положительную оценку, не прибегая для этого к глубокому изучению содержания многотомных учебников.
Приведу пример.
Пока идёт цикл занятий, ушлые студенты успевают познакомиться с лаборанткой, коими обычно являются бывшие абитуриентки, завалившие тот или иной предмет на вступительных экзаменах или не прошедшие по конкурсу (не добравшие баллов).
Лаборантками они устраивались на какую-нибудь кафедру в надежде, что работа в институте принесёт им необходимые для последующего поступления знакомства.
И очередные приёмные экзамены уже на следующий год она будет сдавать, как «своя».
Как работница кафедры института, ставшего родным.
От простой лаборантки на экзаменах (как от шестёрки, что бьёт туза) зависело многое.
В частности, именно она раскладывала билеты в одном ей известном порядке на экзаменационном столе тыльной непрозрачной стороной вверх.
Знание расположение билета («четвёртый ряд пятый слева») с определённым номером давало возможность не готовиться к экзаменам по данному предмету, ночами зазубривая ответы на все в них поставленные вопросы: стоило только выучить единственный билет, местонахождение которого тебе указывала сообщница-лаборантка.
На старших курсах мы эффективно использовали данный приём, позволяющий без труда получить хорошую отметку и тем самым сэкономить силы для сдачи следующего экзамена.
Итак, возвращаюсь к вышеупомянутым педиатрам.
Ребята жили по установленным ими ранее правилам, позволявшим не слишком затратно продлять приятное пребывание в лагере.
С собой они привезли специальный, на первый взгляд, ничем не отличающийся от прочих альбом.
Что-то типа альбома для фотографий.
Или большой книги в шикарном подарочном исполнении.
На самом деле это была покрытая слоем замши фляга, декором своим прекрасно имитирующая фотоальбом или большую книгу, напоминающую энциклопедический словарь.
Словарь, кстати, у них тоже был.
Раритетный.
Брокгауза и Эфрона.
Редкость чудовищная!
Выпуска начала двадцатого века!
Словарь реальный они листали вечерами для развлечения, «начитавшись» поддельного.
Изюминка словаря Брокгауза и Эфрона состояла в том, что он не соблюдал принципа абсолютного запрета ненормативной лексики.
Он был по-настоящему полным словарём великого и могучего русского языка!
Матерные слова и их толкования в этом словаре считались неотъемлемой составной частью русского языка, свойственной ему и характеризующей его.
Нравственные нормативы употребления тех или иных «сомнительных» слов этим словарём начисто отметались!
Поэтому педиатры прикалывались над каждым входящим в их домик посетителем вопросами примерно такого содержания: «А хочешь знать, что означает термин «Блядь»?
И тут же, открыв нужную страницу, зачитывали толкование матерного «термина».
Брокгауз и Эфрон хороши тем, что узорная вязь словесного толкования воспринималась легко, запоминалась слёту, как стихи!
Я, например, на всю жизнь запомнил толкование слова «Сплетня».
«Сплетня это распространение заведомо ложных сведений о ком-либо или о чём-либо».
Ну, разве не стихотворение?
Теперь о фляге.
Фляга эта на день приезда содержала в себе прекрасное крымское вино, которое мы, естественно, быстро выпили.
В последующие дни после обеда она восполнялась содержимым бутылок плодово-ягодного вина, закупаемого в продмаге соседней с лагерем деревушки.
С фальшивой книгой под мышкой разудалая компания направлялась на озеро, где мы купались и катались на лодках.
Насобирав по пути к озеру вкусных душистых яблок, педиатры усаживались в лодку и, отплыв на безопасное расстояние (чтобы не быть увиденными) снимали трусы и загорали в таком нудистском виде, подставив волосатые задницы палящему солнцу.
Попутно они периодически прикладывались к кладезю мудрости — фляге-«Энциклопедии», закусывая хрустящими плодами бывшего совхозного сада.
Иногда брали с собой удочки.
Что удивительно, к женскому полу холостяки, как в фильме «Три плюс два» поначалу были совершенно равнодушны.
В пример героям фильма отпускали на всё время лагерной смены бороды.
В первый же день совместного с ними проживания они меня удивили.
Тем, что, едва устроившись, бросив вещички на свои кровати, тут же принялись копать глубокую яму (2Х2) прямо за домиком.
Выкопанную яму прикрыли толстым картоном.
Сверху картон был засыпан небольшим слоем земли и художественно забросан ветками деревьев.
Место для ямы выбиралось самое безопасное, чтобы не дай бог, в неё ненароком не ввалился какой-нибудь зазевавшийся житель спортгородка.
Всякий день по очереди назначался дежурный.
Но не для того, чтобы наводить порядок и чистоту в домике!
Обязанности дежурного имели своеобразную специфику: он после обеда, получив положенную сумму, шёл в деревню отовариться.
Главное: уложиться в два часа тихого часа (с 14.00 до 16.00).
Набор покупки обычно ограничивался парой пачек сигарет (по 35 коп. каждая), несколькими бутылками гнилухи-плодовухи (по невыносимому тошнотворному запаху нами сделано предположение, что вино изготовлено из гнилья) по 0,9 руб. за 0,5 л. бут. и минимальной закуской в виде банки кильки в томате и тому подобным.
Да, чуть не забыл сказать о существенном моменте: все деньги, которые мы привезли с собой в лагерь, без соотношения, без уравниловки, в безусловном порядке сдавались в «общий котёл».
Потом собранные деньги делились на равные части по количеству дней проживания в лагере.
Лагерная смена составляла ровно 14 дней, включая «половинчатые» дни приезда и отъезда.
Денег всё равно, как и у всех студентов застойного периода, не могло хватить по определению.
Примерно к середине смены ребята успевали познакомиться и подружиться с женскими половинками, которые от доброты душевной спонсировали мучимых похмельем кавалеров.
Через несколько дней деньги и у них кончались, растворяясь в совместных пирушках за два-три дня до конца смены.
И вот тут...
На помощь страждущим приходила та самая умница-яма.
Дело в том, что после опорожнения бутылок (после тихого часа и перед танцами) стеклопосуда перекочёвывала в эту самую яму.
И в последние дни, самые важные для физической реализации знакомств с избранницами (денежный запас был, как назло, уже окончательно исчерпан), несгибаемый дежурный настырно продолжал свои путешествия длиной два километра до деревни, нагруженный дребезжащим огромным рюкзаком.
Посуда обменивалась на вожделенные бутылки с вонючим вином из подгнивших отходов плодового консервного производства советского времени.
…Перед танцами, где-то в восемь-полдевятого вечера, мы рассаживались вокруг холостяцкого стола и, зажимая носы, насильно вливали в себя поганое пойло для получения долгожданного балдежа.
С первыми аккордами музыки мы немедленно отправлялись на танцы…
Чуть не забыл сказать о тосте, который сопровождал каждую кружку вина перед танцами или каждый стакан компота в столовой.
«За Квинов!» — дружно рычали мы и, содвинув посуду для звонкого чоканья, опрокидывали алкогольную либо безалкогольную жидкость (в зависимости от обстоятельств и времени суток) в свои распахнутые жаждущие рты.
«Квины» это британская группа «Qween”, очень популярная в те годы.
Был у нас с «педиатрами» и свой девиз «Мы, слесаря-сантехники, — завсегда пьяные!..».
На очередной утренней линейке, на которой руководство осуществляло «разбор полётов» (подводило печальные итоги прошедшего дня с перечислением имен провинившихся в совершении неблаговидных проступков), были оглашены имена и моих соседей по койкам.
Таковых в физическом наличии не оказалось: они, проспав зарядку и завтрак, замертво дрыхли — отсыпались после вчерашнего.
Перекличка неожиданно обнаружила отсутствие трёх друзей-«педиатров».
На вопрос физрука, где они, я к месту под общий хохот легкомысленно ляпнул: «А оне — слесаря-сантехники! Оне не можут приттить! Потому как завсегда пьяные!».
Узнав о моей ехидной реплике, сожители здорово обиделись.
Обстановку в домике, состоящим из одной комнаты (и небольшого коридорчика с выходом), помимо четырёх кроватей по периметру и стола в центре, окружённого четырьмя табуретками, довершала одиноко висящая на чёрном шнурке электропровода лампочка накаливания.
Ребята в первый же день соорудили для неё из алюминиевой проволоки люстру в виде каркаса мужского зада, на который напялили чёрные «семейные» трусы.
Свет из двух раструбов штанин трусов двумя лучами бил в центр единственного стола.
Помимо пустых бутылок, перекочёвывающих в яму, также с первого дня все окурки аккуратно складывались в общий большой алюминиевый таз.
Поначалу меня несколько покоробило это установление.
В последние три дня тотального безденежья я сразу понял, к чему это.
Окурки расшелушивались, и предварительно просушенный табак из них, как и сильно экономившая наш нищий бюджет махорка, засыпался в скрученные из газеты «козьи ножки».
В последний вечер дня закрытия лагерной смены обросшие, с двухнедельной щетиной, мы глушили разбавленный одеколон, приобретавший от смеси с водой молочный цвет.
Иногда в кружку кто-нибудь из присутствующих бросал подозрительную безымянную таблетку.
Затем мы дымили «козьими ножками» над голым пустым столом под абажуром из семейных мужских трусов.
Мои «Педиатры» — вечные балагуры, шутники и «приколисты» — не давали ни одному дню пройти без какого-нибудь прикольного номера с их участием.
Главное правило, которое безукоризненно ими соблюдалось, это не переборщить и не доводить дело до драки.
…Иначе сами знаете, что.
§3. Мамука
В одну из смен нашим солагерником был жизнерадостный грузин по имени «Мамука».
Женщин Мамука любил самозабвенно, вовсю демонстрируя приливы своей кавказской крови.
Девушек он домогался всеми возможными и невозможными способами.
Его активность в этом отношении распугивала даже обычных неприхотливых и вполне «добрых» «давалок».
Грузин не ведал слов «Тактичность», «Деликатность», «Душевная тонкость» (тем более).
Всякие там «Крепости» и прочие оборонительные женские сооружения он привык брат слёту, грубым бесцеремонным напором.
Тактика его поведения не сработала в тот раз, и Мамука решил брать врага за рога кавказскими хитростью и коварством.
…В девичьем домике приглянувшиеся Мамуке студентки привечали маленького симпатичного сына преподавателей, которые тоже любили частенько отдыхать по дешёвой и сердитой профсоюзной семейной путёвке в «Кировце».
Этого малыша приятной наружности все звали ласково «Вовочкой».
Вовочка навещал подружившихся с ним медичек, которые с радостью нянчились с ним, угощали конфетками, непременно устраивали различные игры с его центральным участием.
Заботились о нём, как бригада «мамочек».
Ребёнок навещал их в любое время суток (кроме глубокой ночи); зачастую приходил поздно вечером, перед сном.
Девы к тому времени закрывались от мира сего, кишащего похотливыми самцами, на ключ и задёргивали занавески, чтобы никто не имел возможности подглядеть, как они, полуодетые, проводят последние часы перед отходом ко сну.
Пропуском для Вовочки был условный трехкратный стук в дверь и пароль, произнесённый тонким детским голоском «Это я, Вовочка!»
Мамука, поставив перед собой цель проникнуть в заветное гнёздышко нимф, проявил нестандартную кавказскую изобретательность.
…После девяти часов, когда уже стемнело, он, как чеченский лазутчик, незаметно и тихо пробрался к двери дома и трижды, размеренно, постучал.
«Кто там?» — раздалось изнутри.
«Это я, — сочным басом-профундо с мощным грузинским акцентом произнёс сладострастный Мамука, — Во-во-чи-ка!».
Все буквально попадали со смеху!
…На следующее утро в лагере все пересказывали эту юмористическую сценку, изображая героев в лицах и соблюдая все их интонации, тембры и акценты.
§4. «Свадьба в Мали... Белозёрихе»
В одно лето после третьего курса от скуки, охватившей лагерь из-за отсутствия какой-либо культурно-развлекательной жизни, мы с ребятами отчубучили номер.
«А давайте — проявил я инициативу, — устроим свадьбу, с гулянкой за длинным широким праздничным столом с возможными угощениями, проводами молодых в опочивальню и вывешиванием наутро простыни с постели новобрачных?».
Идея сразу же понравилась всем присутствующим!
Мы распределили роли. Главную роль — роль жениха, конечно же отвели инициатору — Смородину.
В невесты мне назначили реальную девственницу о двадцати годах (как сохранилась!) из соседнего дамского домика.
В назначенный час к нашему домику потянулась вереница гостей: слухи о «Свадьбе» стремительно распространились в студенческой заскучавшей среде.
Денег у студентов при себе всегда было мало, поэтому мы разрешили в качестве подарка приносить по две бутылки плодово-ягодного вина (по 90 копеек за бутылку) на мужское рыло и любую съедобную закусь от представительниц женского пола.
…Стол ломился от явств и угощений!
Прежде чем сесть за него, как и полагается, лжесвященник, роль которого успешно сыграл Мишка из Универа, провёл нас в отдельную комнату, имитировавшую церковь и совершил обряд бракосочетания, читая заранее написанную мной речь.
При этом он накрыл головы молодожёнов обычным вафельным полотенцем, подразумевающим брачный венец.
Речь его была пересыпана скоморошьими шутками, содержание её не помню.
В финале речи должно было торжественно прозвучать: «Рабы божьи, черви земные…».
«Священник» сбился и проговорил «Черти земные…».
Все расхохотались!
Мы славно попировали до положенных двенадцати часов!
На это час были запланированы проводы молодожёнов в опочивальню.
…Нас определили в свободную комнату, а сами, в полном соответствии с моим сценарием, покинули домик, чтобы под гитару направиться к костру, заблаговременно разожжённому неподалёку, дабы дать молодым совершить брачное таинство и отдать супружеский долг друг другу.
Хихикая, мы с новоиспечённой «женой» полезли в кровать.
Разделись до нижнего белья и принялись целоваться.
«Ну теперь снимай трусы!» — то ли в шутку, то ли всерьёз изрёк жених.
«Как...трусы?» — удивилась невеста, считая всё происходящее забавной игрой, не более того.
Улыбка сошла с её обескураженного лица.
«Да ладно тебе кочевряжиться, снимай, — продолжал настаивать я. — Этого требует сценарий: если ты их не снимешь, то нечего будет предъявить на утро гостям!».
Я имел в виду простыню с пятном от якобы порванной в первую брачную ночь целки.
То самое «пятно» мне обещали нарисовать девчонки из соседнего домика.
О реальной девственности «липовой жены» я не мог даже и помыслить.
Для девушки-медички, только что разменявшей третий десяток, наличие девственной плевы (даже в те «скромные» времена!) казалось мне несколько странным.
Она безропотно повиновалась.
Каково же было моё изумление, когда мой предвкушающий член действительно упёрся в целку!
Она вскрикнула от боли, насквозь прострелившей её тело.
«Да я тихонечко, — радостно пробормотал я от охватившего меня возбуждения, — сейчас растяну тебе её…».
«Ага, растянешь, так я тебе и поверила!..» — ехидно прокомментировала мои фрикции «жена».
И ловко стала увёртываться от моего кончика, сжимая бёдра.
«Да ты просто не знаешь, что она растягивается, — стал убеждать её ненасытный жених, изображая из себя многоопытного секс-инструктора.
«Что-то не похоже, — решительно заявила она, натянув трусики на прежнее место.
Я прекратил попытки лишения девственности, пожалев заигравшуюся подружку.
…Утром ту самую простыню, которую мы решили украсить нарисованным красным пятном, нам вывесить не дал наряд руководства лагеря, прослышавший от вездесущих стукачей о подробностях минувшей ночи.
Начальник лагеря и физрук посетили наш домик, дабы разорить гнездо разврата на корню.
Узнав о том, что главным подстрекателем во всей этой истории оказался давно зарекомендовавший себя морально устойчивым студентом Смородин, они сильно удивились.
Когда они зашли в комнату, я сидел только в синих плавках и светло-коричневых сабо на босу ногу.
Комиссия остолбенела от увиденного…
С моих колен на глазах поражённой комиссии с визгом «Ой!» вспорхнула какая-то испуганная девушка.
«Ну ты даёшь, Смородин, — отпыхивался физрук, придя в себя, — уж никак не ожидали мы такого от тебя!».
На вечер первого дня «совместной жизни» молодожёнов мы запланировали по сценарию похороны.
Я должен был, с вымазанным зубной пастой бледно-зелёным лицом лежать в импровизированном гробу в центре танцплощадки под направленным на меня светом прожекторов.
А надо мной тот же «евросвященник», что меня венчал, должен был прочесть знаменитый монолог Григория Петровича Запойкина, героя одного из экранизированных рассказов Чехова «Оратор» (фильм «Эти разные, разные, разные лица...», 1971), роль которого в своё время великолепно исполнял бесподобный Ильинский.
Рассказ начинался так: «В одно прекрасное утро хоронили коллежского асессора Кирилла Ивановича Вавилонова, умершего от двух болезней, столь распространенных в нашем отечестве: от злой жены и алкоголизма.
Как и Запойкин, Мишка, игравший накануне священника, должен был перевоплотиться в блестящего оратора и произнести:
«Верить ли глазам и слуху?
Не страшный ли сон сей гроб, эти заплаканные лица, стоны и вопли?
Увы, это не сон, и зрение не обманывает нас!
Тот, которого мы еще так недавно видели столь бодрым, столь юношески свежим и чистым, который так недавно на наших глазах, наподобие неутомимой пчелы, носил свой мед в общий улей государственного благоустройства, тот, который... этот самый… обратился теперь в прах, в вещественный мираж…
Неумолимая смерть наложила на него коснеющую руку в то время, когда он, несмотря на свой согбенный возраст, был еще полон расцвета сил и лучезарных надежд!
Незаменимая потеря!
Кто заменит нам его?
Хороших чиновников у нас много, но Прокофий Осипыч был единственный.
Он до глубины души был предан своему честному долгу, не щадил сил, не спал ночей, был бескорыстен, неподкупен...
Как презирал он тех, кто старался в ущерб общим интересам подкупить его, кто соблазнительными благами жизни пытался вовлечь его в измену своему долгу!
Да, на наших глазах Прокофий Осипыч раздавал свое небольшое жалованье своим беднейшим товарищам, и вы сейчас сами слышали вопли вдов и сирот, живших его подаяниями!
Преданный служебному долгу и добрым делам, он не знал радостей в жизни и даже отказал себе в счастии семейного бытия; вам известно, что до конца дней своих он был холост!
А кто нам заменит его как товарища?!
…Как сейчас вижу бритое, умиленное лицо, обращенное к нам с доброй улыбкой, как сейчас слышу его мягкий, нежно-дружеский голос…
Мир праху твоему, Прокофий Осипыч!
Покойся, честный, благородный труженик!..
Прокофий Осипыч!..
Твое лицо было некрасиво, даже безобразно, ты был угрюм и суров, но все мы знали, что под сею видимой оболочкой бьется честное, дружеское сердце!»
Представляете, предложивший прочитать этот монолог порхатый еврей Мишка, студент физмата Университета, помнил его наизусть!