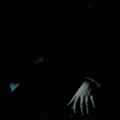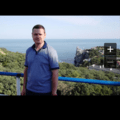Час Игры
* * *
...шестьдесят одна минута до Бада-Бумм...
Только накатили по рюмахе, Олька рожать затеялась.
Я сразу в «шестёру» – и по газам. Тесть, значит, в окошко зырит. Тёща из курятника закудахтала: «А мы-то как, Коленька?» Аж зло берёт. Все люди, как люди, а вы, как сон на блюде! Без колёс на даче в сортир уже сходить западло. А Олька говорит: «Шевелись, Колюня, самому придётся роды принимать!» Я что тебе, гинеколог?!
Еду бойко, без спешки.
Старух с мешками-столиками не сшибаю.
Хорошо ещё, Валерку у мамы оставили. Это сын, теперь как бы старшенький. Олька на заднем сиденье молчит или крякает, как утка. Постанывает. "Вот-вот,, -думаю, - водами леванёт... Приходи, кума, любоваться!"
Пацан этот на обочине… я его издали заприметил.
Хоть и спешили, а всё-таки тормознул. Почему тормознул? Да нипочему, ёбтэ! Вот почему одни пропускают, когда выезжаешь с заправки, а прочие усраться норовят?
Нет объяснений. Одни эмоции, бл…ть.
Он так... боком шёл, пацан. Хромал, чисто паук с перебитой лапой. Рукой махал безнадёжно. И сел сразу назад, к Ольге, хотя я на переднее приглашал. Смотри-ка, осторожный какой. Вообще-то выходной у меня с утра. Ничего, нормально так... накатили-то по рюмашке, всего ничего.
До метро попросился пацан – а до роддома ещё три... нет, четыре будут у нас метро. Да и бабок будет кстати срубить, в аккурат на обратный бензин. Как этот дятел-то в дебиляторе говорил: «Десять баксов – не лишние!»
...сорок четыре минуты до Бада-Бумм...
Ну, до чего козлы! Дай мужикам волю, в гинекологическое кресло к бабе полезут. С х…м наперевес. Говорила Кольке: "Не трогай! " Я в положении совсем чего-то слабая стала на передок. Много ли бабе надо? Подул в ухо, погладил... вот и сгоношил на локтевую. Лучше бы я ему отсосала, уроду. Так нет же, раком хочу! Вот роды и стимульнулись, как по заказу. По срокам-то, две недели ещё дохаживать.
А тут с утра рожать вдруг приспичило.
Смотрю, интервалы между схватками сокращаются.
Чухаться некогда. Я когда Валеркой беременная ходила, многому научилась. Первые роды тяжёлые. А вторые могут и на раз проскочить. Впечатление, бабы говорили, будто поср…ть сходишь. Ну вот, поехали мы. Собираться мне – как стриженой девке косу заплесть. Пассажира мы подобрали. Вроде как по согласию. Не пойму, откуда оно взялось-то, согласие это. Пассажиры, по-Колькиному сказать, в х…й сейчас не упёрлись! Но мимо денежки Колян не проедет. А мне вдруг пацана жалко стало. Худой, смуглый, глаза провалились. Колючие такие.
Он сел и говорит: «Здравствуйте, я Семён». «Здравствуйте», – говорю.
Только мне и делов сейчас, с мужиками знакомиться.
Колька говорит: «Деньги приготовь, зёма! На ходу придётся выскакивать». Но раньше Сёмы цементовоз с обочины выскочил, бл…на такая.
...одиннадцать минут до Бада-Бумм...
Мне очень хотелось ехать в одиночестве. Ехать и спать. Редко так устаёшь от людей, как после бессонной ночи с женщиной, которой противен даже звук твоего голоса. Но одиночество – вещь недешёвая. Не все себе могут позволить. Что поделаешь, внутри себя мы тоже не одиноки. Тело одинарное, а дело в душе – двойное. Как кастрюля-пароварка: где кипит, где варится. Так и половинки души, они, того... не стыкуемые.
А может, даже больше их, половинок этих? Но остальные, твари, лежат себе и помалкивают. От века бьются две дольки души: Звериная и Человечья. Звериная упивается сейчас воспоминаниями о том, как Катя извивалась и по-звериному выла под пытками… а человечья, плача, выпрашивает у Катёныша извинений.
Мы выкурили в полночь по паре джойнтов.
Алкоголя... даже не помню, сколько выпили. Я прижигал ей сигаретой худые ляжки в редких серебристых волосках. Она подвывала и вздрагивала. Я бил её по выпирающим позвонкам, и она согласно принималась ходить ходуном, словно шаткий мостик в ночной, бесконечной и таинственной Лете. Она качалась и трясла бёдрами, как ошалевшая кобыла. Я шлёпал ей по губам сизоватой головкой члена, омертвелого в застывшей эрекции. И она послушно ловила его, безобразно причмокивая.
Предложи она мне хоть половинку... нет, даже четверть подобного беспредела! И я без колебаний вонзил бы в грудь Катюши не покидавший карманы старенький штык-нож, украденный однажды с военных сборов.
Но Катя молчала и только икала от холода.
Она осталась одна на опустевшей, промёрзшей даче. Ни жива, ни мертва. А я до рассвета ушёл, не попрощавшись. Я ненавидел эту женщину и себя. Всю дорогу пешком меня непрерывно трясло и подташнивало. Я поднял руку. Почему остановились именно эти «Жигули»? Водитель напряжённо пыхтел что-то, источая густое похмелье. Я поздоровался и сел назад. Губы тётки, сидевшей на соседнем сиденье, зашевелились. Но её слова не произвели на меня обычного действия. Я их попросту не расслышал. Водитель что-то сказал про деньги. Я нашарил в брючном кармане две пятисотрублёвых купюры и смял в кулаке.
Других денег попросту не было.
Две дольки затихли, устав от борьбы, и принялись играть в прятки. Наступал Час Игры. Любимое время, когда мозги гудят от трассирующих фраз, словно раскалённый паровой котёл. А тело прикидывается, что всё ещё – живая плоть.
...четыре минуты до Бада-Бумм...
Цементовозника я сразу засёк. Краем глаза. Пятнашку за рулём отвалять, это вам не в тапки нагадить! Тоже с бодуна болезный, небось. Гаишников торопится проскочить! Вылетает на трассу и не чирикает. А выезд при царе Горохе раздолбан и гравием чуть присыпан. Без утрамбовки.
Самосвал, поди, с полкузова не пожалел. Гравий из-под колёс брызнул в ветровое, как пулемётная очередь. Трещины, трещины по стеклу, как в рожу мне плюнули!
Вправо некуда, там кювет. Я влево давай, на встречку, а там газанул. «Обойду его, – думаю. – Прижму, зараза, и по рогам! Учить таких надо!!» Олька свой человек, потерпит – хоть пальцем пускай назад младенца запихивает.
Ан хрен тут всем нам на лысый череп... летит по встречной бэха-вседержительница. Внедорожная, значит. Как вмажет мне в правую скулу, я брык – и с четырёх на два опорных колесика. А на соседней полосе микроавтобус-маршрутка, серенький зайчик. Лобовое столкновение – хруусть-шмякс! Остались от зайчика рожки да ножки.
Завертело нас, закувыркало вокруг оси.
Ударом рулевой оси развалило брюшину мне надвое.
Лечу в перевороте, а следом кишки, зеленовато-сизые, комьями перекатываются, будто бы отстают… Мама в комнату прошла с молочной крынкой. В ледяной истоме молочко-то – стало быть, с погреба. Боли нет никакой. Только вижу, потолок будто бы чернеть начал.
Смутно всё, и Олька не...
...две минуты до Бада-Бумм...
Треск пошёл – казалось, градом нас прихватило. А потом, словно в трубу Валеркиного калейдоскопа попали. Грохнуло, завертелось. Бьюсь, бьюсь о стены, то головой, то рёбрами, аж искры из глаз. Хруст какой-то слышу: оказалось, кости ломаются. Кисть левой руки, ключица лопнула. С ногами тоже что-то неладно. Потом вдруг грохнуло так, что я язык прикусила, и вмиг затихло.
Зажало меня между кресел. Чувствую себя... хрустальной, что ли. Лопну вот-вот, если вздохну полной грудью.
А внутри всё дрожит, будто воет: "Ребёнок же! Ребёнок!!" Словно несу домой кошёлку с яйцами... а дно у кошёлки – возьми, да и лопни. Сёма, сосед мой, вижу, трудно так поворачивается к дверям. Выталкивает их ногой. Гляжу, у него и рубашка, и спина вдоль позвоночника разорваны.
И розовато-серое лёгкое движется под рёбрами, ровно как меха у баяна. На Колю я только разок взглянула и сразу зажмурилась. Вместо Коли в кресле какое-то месиво. И дух такой... кислый, тяжёлый запах крови, да ещё с г…ном как будто замешан. Вырвало меня, легче стало дышать.
Я опять на Сёму смотрю – тащи, мол. Тут меня словно обожгло: рядом с Колей показался язычок пламени. Безобидный такой, словно прикурить дают. Горючки у нас в обрез. «А рвётся-то, – вспомнила я, да так и ахнула, – как раз пустой бензобак!» Когда-то мы с Колюней в кино ходили, так всю дорогу он обратно авто-трюки критиковал.
Сам бы лучше водить учился, гончила хренов…
...восемнадцать секунд до Бада-Бумм...
В этот раз Игра удалась. На все сто. Только в этой Игре мы снова были вдвоем, как ночью с Катей. Вдвоём на этот раз с пузатой тёткой, зажатой соседним креслом. Язычок пламени лизнул подлокотник водителя, и я понял, что скоро взлетим на воздух. От водителя толку не было.
Но, может, и к лучшему.
Половинка Зверя сказала: «Ухх-ха! Всё, приготовься сдохнуть». «Нет-нет, – подумал я торопливо. – Я выхожу».
«Досматривай без меня», – сказал я Половинке Зверя.
На прощанье почему-то взглянул беременной дуре прямо в суженные от боли зрачки и вдруг понял, что Зверь её посильнее будет, чем мой. Увидев, что я разворачиваюсь к дверям, которые после толчка вздрогнули и выпали на землю, тётка перестала ёрзать между креслами и медленно откинула голову. Глаза её смотрели презрительно и спокойно: «Ну, что же ты? Ссышь, сосунок?»
А мне бы хотелось, чтобы все они передохли.
Зачем садиться за руль, когда с утра навеселе?! Да ещё с беременной бабой за плечами. А меня... меня-то за что вы, уроды?! И в ту минуту, когда я понял, что тёткин Зверь сильнее моего, высокий и чистый голос сказал вдруг где-то внутри: «Умирать, Сёма – всё равно, где и как! Во что ты дальше-то превратишься, если вдруг выживешь? Сниться тётка начнёт, со своим стеклянным, безумно-равнодушным взглядом"….
...семь секунд до Бада-Бумм...
Сёма выбил дверь, оглянулся, снова дёрнулся было к проему. Я так поняла, не хочет он нас с ребёнком спасать. Такое зло взяло. «Да гори оно, – думаю, – пропадом! Жила с козлом, и помирать доводится с... бараном».
Тут Сёма снова повернулся ко мне. Протянул руку и сжал воротник блузки. Сильные пальцы, по виду не скажешь.
Он сильно дёрнул меня за ворот.
Я попыталась сказать, что нельзя, мне так больно. Но он снова и снова, сильно и резко, дёргал и дёргал, тянул и дёргал меня. И вот я вырвалась, и пролетела по сиденью, как пробка. И Сёма выпал наружу, не выпуская меня. Задохлую, рожающую тётку. Всю боль мою в тот момент как рукой сняло. Повернулся он, прочь ползти. И вижу снова, лёгкое сминается уже и сзади, в Сёминой спине, словно грязная тряпочка, а разжиматься не хочет. Поползли мы.
И тут, как полыхнёт позади! Нас с Сёмой вздыбило и раскидало. Сколько пролежала, не помню.
А когда подняли на носилки да понесли, посмотрела и вижу, что между колёсами «скорой» Сёмина голова на меня озабоченно скалится. А самого его нигде не видать.
Врачам пытаюсь сказать: «Голову подберите!» Машу рукой, а пальцы-то машут отдельно от меня. Сломаны, надо думать. Только и успела сказать: «Мальчик если, Сёмой чтобы назвали… слышите, СЁМОЙ!!» И всё пропало куда-то. А в больнице я слышу: «Девочка у вас. Отцу куда сообщить?» И тогда я заплакала: «Девочку-то... девочку я как назову?»