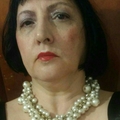Отпуск
В Героевке я отдыхала первый год, а наташкины - уже лет десять подряд. Маленькие домики в тамариске, розах и виноградниках укачивал близкий прибой, шуршал белый песок, цикады звенели сквозь это дремотное бормотание: заядлым пляжникам было комфортно - а мне скучновато. Потому я таскалась то в музей эльтигенского десанта, манивший гулкой пустотой и добротным кондиционером, то на развалины античного городишки Нимфей - два обломка мраморных колонн, ямы, несколько булыжников и горячая пряная степь, то вползала на кряжистый потный курган очередного Митридата или неизвестного экскурсоводше скифа, увенчанный огромным бетонным треугольником, долженствующим изображать крыло в честь и для.
Недалеко от музея была крохотная пристань - и юркий катерок, имитирующий посудину времен второй мировой, отважно скакал в самой широкой части пролива по мелкой сливочной ряби восхитительной панорамы: с этого берега виднелись лиловые ломти запроливной Тамани и керченские, размазанные маревом берега.
Катерком управлял не менее аутентичный кудрявый Николай в настоящей тельняшке и клешах с настоящей козьей ножкой в зубах, что действительно придавало еще больше натурализма экскурсии, тем более ценной, что трепа экскурсовода не было - сам морячок вам рассказывал любые байки о второй мировой и только по просьбе отдыхающих.
По вечерам Николай иногда приходил на террасу нашего отеля: наташкин отец неплохо играл на гитаре, находились желающие немного попеть, а мы с Наташкой просто лениво цедили закат сквозь пузатые бокалы с местным каберне.
Мой отпуск постепенно таял, наташкины собирались оставаться еще на месяц. Николай заходил все чаще, мы с Наташкой уже вовсю катались на николаевом катерке бесплатно, когда у него не было клиентов. Наташка была меня на пять лет младше, на порядок грудастее, ногастее и гривастее, но, кажется, морячку всё-таки нравилась больше я. Однако бурный мимолетный роман с этим, явно деревенским, милым, но совсем необразованным парнишкой в мои планы не входил. Мне хотелось только моря, солнца, тепла, фруктов и прогулок вокруг Героевки, тем более что погода начинала портиться, все ждали дождя, туманов и штормов, которые должны были прийти вот-вот , но всё не приходили и не приходили.
По утрам начали заползать в горлышко пролива тоскливые, едва шевелящиеся языки цвета топленого молока, виноградные кисти налились фиолетовой тяжестью и заплакали тяжелой терпкой росой, а тополя вдоль расплавленного асфальта начали стремительно желтеть и лысеть. Травы под ногами окончательно превратились в коричный скрипучий порошок, виды пожухли, выцвели и стали напоминать всё больше музейные пыльные фото, которые меня тянули всё чаще - благо смотрительницам маленького музея тоже уже надоело собирать с меня дань.
Чаще всего в музей я заходила по дороге на обед - от пристани к отелю была слишком горячая ухабистая прямая. Мне нравилось разглядывать полуразмытые снимки, представлять жизнь людей на них, фантазировать, дописывать историю у себя в голове. Это занятие затягивало и увлекало, иногда я представляла всё настолько отчетливо, что даже слышала далекие разрывы снарядов, свист пуль и вдруг в полуденную жару ощущала странный тревожный холодок и запах гари, хотя, наверное, это всё же горела под жёстким летним солнцем беззащитная степь.
Чаще всего я останавливалась перед портретом Лили Ивановой, конечно, хотя он был очень маленьким и очень плохо сохранившимся темным квадратиком на полуистлевшем клочке газеты с полустертыми ржавыми буквами: "Младший лейтенант медицинской службы..." Молоденькая, с короткой, как у меня, стрижкой и таким же, как у меня, именем и фамилией. Это как раз совсем не удивляло - нас, Ивановых, в России везде полно, но всё-таки здесь, в музее, это примерно так же напрягало, как и моя фамилия на каком-нибудь забытом плешивом камне разоренного сельского кладбища. В общем я ходила и ходила - перевести дыхание в молчаливой прохладе, постоять-поболтать с хиреющей от отсутствия публики экскурсоводшей, пройтись по пустым комнатам со строгими темными фото и ... к Лиле.
Меж тем лето сворачивалось в канареечную трубочку случайного кленового листа, липло блестящей паутиной, плыло мелкой слезой по стеклу и долгим стоном то ли птицы, то ли ветра над помрачневшей резко водой. Население отеля постепенно менялось, неизменно оставались наташкины: папа играл на гитаре под наше каберне - и это придавало некую устойчивость этому уютному зыбкому безвременью. Я начинала мысленно укладывать чемодан, чаще бродить по мокрому песку, с которого волна тут же нещадно выдавливала отпечатки моих ступней. Но приходили часы и даже дни - и море по-прежнему ластилось, как белая лохматая собака, лица людей светлели, и катерок носился по ликующей глади, дымя очередной козьей ножкой своего бравого капитана.
Однако время неумолимо отрезало от света и тепла куски, виноград понемногу превращался в изюм, розы увядали и осыпались, тени становились длиннее, нахальнее и резче, а шум прибоя иногда напоминал прибытие паровоза. Туманы угрожающе наплывали и разваливались всё ближе, гуще и темнее, жадно глотая из пролива соль, воду и звук. Мы катались и улыбались всё реже, наш морячок куда-то засобирался. Меня кошмарил неумолимый отъезд - и Николай предложил нас покатать напоследок с утра.
Когда Наташка стукнула в дверь, я впустила ее вместе с клокочущим бесцеремонным кипением ледяной белизны.. Ехать не хотелось, но я пошла. В таком густом тумане мы видели только катер и небольшой лоскут тёмной немоты, которая толкала суденышко вперед.
Внезапно катер остановился как вкопанный и - Наташа скользнула за борт. Я не поняла: прыгнула она или упала. Перегнулась за борт и стала кричать: как ни странно, Наташи нигде не было. Она как будто мгновенно исчезла.
Мы медленно плыли по течению сквозь колышущиеся желтоватые лохмы - я переходила от борта к борту и кричала, но крик тут же обрывался в бурлящем месиве с красноватыми всполохами. Вдруг мне показалось, что на глубине в толще воды стали проступать белые лица. Становилось всё холоднее и всё темней. Поникшая, я села на корму, закрыв руками лицо, по которому текли слезы. Николай молча смотрел в белёсую тьму, стоя на носу катера. Так мы плыли очень долго. Я успела замерзнуть, закутаться в предложенный бушлат и даже немного перестать бояться. Слезы высохли. Из ниоткуда и ничего начали доноситься странные звуки: какое-то тяжелое дыхание, далекий гул и гортанный говор, тревожные механические шумы, кашель, бульканье, фырчание, позвякиванье и беспокойное уханье.
Через полчаса такого блуждания я уже могла поклясться, что наступила зима: на мокрых частях корпуса катера появилась наледь, а холодный воздух стал колким и неживым. Мною все больше овладевало странное безразличие. Улыбчивое лицо Николая как будто тоже высосал туман: оно стремительно посерело и осунулось. И тут я услышала резкий свист - раз! другой! - и увидела фонтанчики на воде. Знакомые фонтанчики.
В то же мгновение Николай обернулся и сказал:
- Пригнитесь, товарищ младший лейтенант, отпуск кончился...