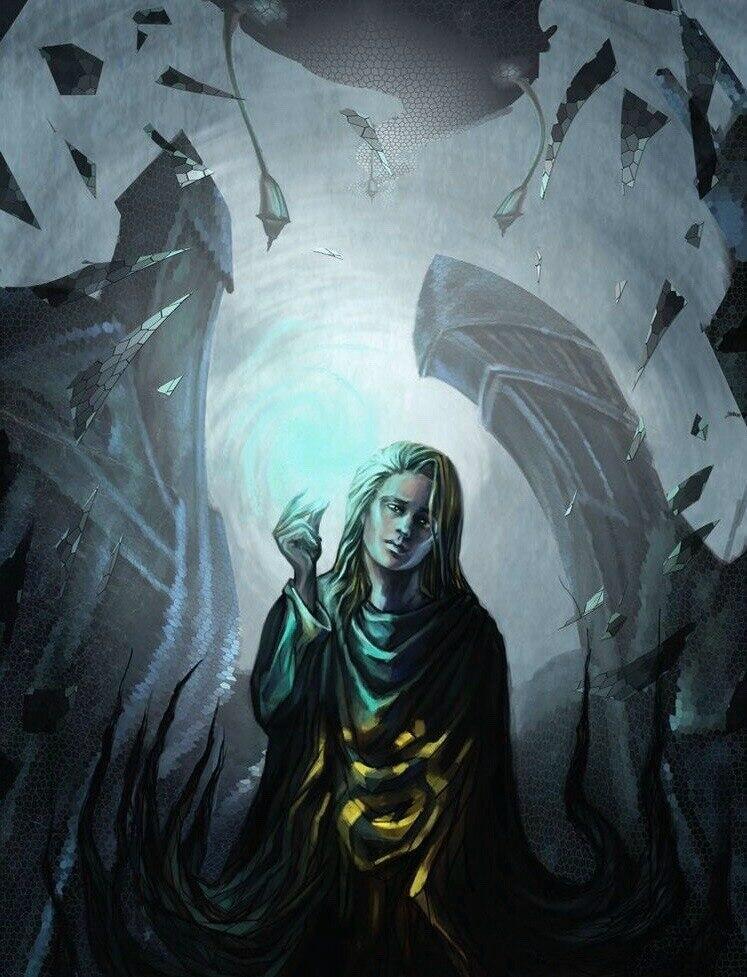Спишь на работе, под утро домой спешишь,
не замечая весны и чужого смеха.
Эхо мозаичных улиц на дне души
жалит тоской, выдыхает с тревогой: «Ехо!»,
но за душой — ни надежд, ни любви, ни зла,
нечего больше бояться, и нечем помнить...
Это в тебе просыпается Черхавла,
хищной омелой ветвясь, запускает корни
в мёртвое сердце; глядит сквозь твои глаза,
проблески чувств обращая в слюду и камень —
и на руинах растит иллюзорный сад,
строит в безлюдной пустыне дворцы и храмы.
Омутом бликов, кипя, распахнётся высь,
грани нездешних миров полыхнут сквозь крыши.
Птица кричит из-за облака: «Берегись!
Это тюрьма!..» — но ты больше её не слышишь.
Двери из радуг. Прозрачно-лиловый свет.
Там, за стеной — те, кто раньше тебя любили.
Ты не желаешь быть прежним, и боли нет,
только мечты и свобода, что стали былью.
Солнце, что городу светит — в тебе встаёт,
кости предтеч заметает песками ветер...
Птица над пустошью кружит. И для неё
разницы нет между путами чар и смертью:
правом быть пищей, кормить чудесами зло,
не различая, где лживые сны, где вещи...
«Эй, просыпайся!» — взмах крыльями. И стекло
брызжет под клювом звенящим узором трещин.
Плеск. Ни песка, ни слепящего неба — лишь
шёпот травы, чьи-то вздохи в тумане сонном.
Птица сидит на болоте. Ей снится Ишм,
блики истаявшей жизни в зелёных волнах.
Всё, что казалось своим, унесла вода,
сладость чужих наваждений вливая в губы.
Тени подходят всё ближе. И лишь тогда
ты вспоминаешь, что ты — вечный раб Харумбы,
эхо себя... Навсегда — эти топь и тишь,
сны — и бессмертие больше уже не манит.
...Если как следует дёрнешься, то взлетишь.
Но даже так — ты останешься здесь, в тумане.