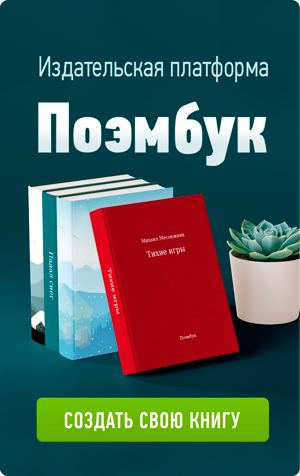ОСТРОВА УШЕДШЕЙ ЖИЗНИ ОЧЕРКИ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ
СЕРГЕЙ НОСОВ
ОСТРОВА УШЕДШЕЙ ЖИЗНИ
Васильевский остров. Лимузи.
Очерки моих воспоминаний. Очерк первый
Я действительно появился на свет на острове… На одном из самых знаменитых островов Санкт-Петербурга, где Петр Великий когда-то мечтал устроить центр своего северного «парадиза» в устье Невы - памятном и самим петербуржцам и знатокам истории города Васильевском острове.
Родился я на 6-ой линии Васильевского острова в 1956-ом году, в доме 5 напротив старой церкви, названия которой увы не помню, да, пожалуй так никогда толком и не помнил, и не знал.
В советские времена моего детства в этой церкви давно уже помещался какой-то склад, и ничего интересного для меня она собой не представляла.
А вот рядом в церковью был большой старый сад с огромными высокими и развесистыми деревьями разных пород - и вот это было здорово и очень интересно.
В саду я играл и резвился… И помнится уже в те самые ранние годы моей жизни мечтал пообщаться и познакомиться именно с девочками, в которых чувствовалось что-то очень привлекательное… Но из за моей стеснительности чаще всего такое детское знакомство так и оставалось только моими мечтами…
Моя родная 6-ая линия казалось мне очень широкой и как будто полной свободы - это была сплошь заасфальтированная улица (мой дом был на участке от Среднего проспекта до Малого проспекта Васильевского острова), обычно совершенно пустая и свободная от всякого транспорта, а потому и казавшаяся мне необычайно широкой.
Проезжую часть моей 6-ой линии очень славно было перебегать «на скорость»…. Что мы с моим тогдашним другом Борькой с первого этажа нашего дома часто и делали с громкими восторженными криками… К большому возмущению моей мамы, не без оснований считавшей такую беготню через улицу опасной - по ней ведь иногда все-таки проезжали какие-то отдельные и потому казавшиеся «странными», как будто заблудившимися автомобили.
Жили мы на четвертом этаже большого каменного старого дома с очень высокими потолками и потому очень большими лестничными пролетами, где было громкое и как в лесу протяжное эхо.
Сбегать с четвертого этажа на первый по широченной лестнице как можно быстрее мне тоже конечно же очень нравилось.
Был и лифт. Но авторитетом ни у меня и вообще ни у кого в семье нашей он не пользовался - старый скрипучий и тесный с деревянными дверцами, которые надо было закрывать самому, а потом и еще захлопывать большую и тяжелую внешнюю дверь лифта, он мне совсем не нравился… Да и доверия этот лифт ни у кого в семье нашей как-то не вызывал.
Потому мы чаще ходили пешком, чем пользовались лифтом… А я конечно с радостью бегал вниз и вверх во всю прыть по широченной нашей лестнице.
Надо сказать в таких добротных старых домах как наш дом на 6-ой линии я потом пожалуй и не жил в Петербурге (хотя я много где жил в своем городе - в пяти квартирах в разные периоды жизни).
Только «старорежимная» эта квартира была, когда я в ней родился, уже коммунальная.
За три года до моего рождения заболел раком и умер мой дедушка профессор юридического факультета Ленинградского университета, которому когда-то - и именно как профессору университета - эта квартира и была предоставлена государством в пожизненное пользование.
Частной собственности на квартиры (как и почти ни на что в жизни) при советской власти конечно не было. И нас с папой, мамой и моим старшим братом «потеснили» - вселили жильцов в одну из трех больших комнат бывшей дедовской квартиры.
Причем почему-то новых жильцов поселили в самую меньшую комнату. И эти жильцы конечно сразу решили, что они в сравнении с нами «бедные люди». И относились к нам ревниво и плоховато.
Обычная история в советских коммуналках… больших и малых.
Так что в этой уже захламленной, когда она стала коммунальной, старой квартире с высоченными пололками я никакой буржуазной роскоши не почувствовал…
Только что одна комната, в которой мы реально всей семьей и жили, была по настоящему просторной - сорокаметровой…
И вот в ней я катался на детском трехколесном велосипеде своем вокруг огромного круглого стола… Это было. Если это можно назвать «роскошью» в моей тогдашней детской жизни.
Родители мои очень стремились выбраться пусть в самое скромное, но в свое отдельное жилье. И вот, когда мне исполнилось 6 лет, это наконец случилось.
Мой отец стал ученым секретарем своего Ленинградского Института Истории, где потом проработал всю жизнь. И через Академию наук нашей семье предоставили трехкомнатную малогабаритную квартирку в только что выстроенном доме в Гавани на самом оконечности обжитой к тому времени части Васильевского острова и уже совсем близко к берегу Финского залива.
Такие дома стали потом называть «хрущевками».
И давно уже к ним относятся у нас в стране пренебрежительно. В квартирках в таких домах обычно крохотная прихожая и тесная кухня, маленькие комнатки.
По сравнению с моим старым буржуазным домом - все как будто было сделано из картона и только для кукол… Но жить в таких маленьких квартирах тем не менее можно было при скромных запросах того времени.
Хотя конечно ездить в такой вот кукольной квартирке на детском велосипеде было уже невозможно. Зато вокруг новых домов той эпохи моего детства (их так и хочется назвать домиками) обычно были устроены такие веселые дворики с детскими площадками!
Друзей у меня в этих двориках сразу появилось очень много. И я стал гулять на улице с утра до вечера и в любую погоду…
Чем я на улице собственно занимался - трудно даже сказать… Проще обозначить это времяпрепровождение одним словом - резвился … Хотя играли мы нередко и в хоккей, и в футбол, и в разные «серьезные» детские игры…
Главное - я был всегда занят и мне было весело.
Хотя не делал я конечно в сущности решительно ничего. И ни до школы, ни уже в школе в первых классах ничему в сущности не учился.
Меня увлекала вольная жизнь после школы во дворе. И она поглощала все мое время и все мои детские силы.
Так продолжалось до окончания мной четвертого класса школы. А потом меня ждал и еще один переезд на новую квартиру, заставивший меня быстро повзрослеть.
Но об этом - позже.
А сейчас пора вспомнить о «сокровищнице» каждого моего лета в детские годы - маленькой и одинокой деревеньке Лимузи, где я проводил тогда каждое лето.
Это была деревушка всего из четырех домов на высокой горе на южном берегу Финского залива, почти напротив старых фортов южной стороны залива и напротив Кронштадта, который с южного берега залива виден очень отчетливо.
Деревенька эта во времена моего детства была в полном смысле заброшенной, хотя люди в ней (старики в основном) еще жили. И место, где она располагалась, было исполнено чарующей одинокой грустной и в то же время по-своему горделивой красоты.
Нечто возвышенное естественно сливалось в самом Лимузи и его близкой округе с щемящим поэтическим одиночеством, с чувством свободы и простора и вместе с тем - с ощущением грустного одиночества, которое остро чувствовалась во всем вокруг…
В Лимузи в душе своей я и стал поэтом.
Это я могу сказать без всякого преувеличения и с полной уверенностью.
И это вероятно и предопределило - пусть и исподволь конечно - весь мой последующий жизненный путь. Все мои стремления и привязанности в их духовном измерении.
Ведь очень и очень многое или закладывается в человека с детства его судьбой в ранние годы жизни и тем что его тогда окружало… Или формируется в человеке в ранние детские годы из скрытых внутренних источников самой его личности… И тогда говорят - таким уж человек и родился.
Финская деревня Лимузи известна уже с ХV1 века.
Но она всегда была небольшим сельским поселением - в восемь или десять дворов. Хотя вся сельская округа рядом конечно не пустовала. И деревень вокруг Лимузи было много. Но - на немалом удалении от самого Лимузи тем не менее.
Лимузи окружали леса и поля. Некоторые поля - распаханные… А большинство из них - просто вольные луга, где крестьяне косили траву…
Для того чтобы собирать грибы и ягоды и просто забираться в какую-нибудь чащобу, бродить по ней и строить шалаши и землянки в «потаенных местах» - в Лимузи было редкостное раздолье…
Но главное украшение Лимузи - склон высокой горы спускающейся к Финскому заливу….
С этой горы открывался изумительный вид на залив, форты и Кронштадт.
Причем заканчивалась гора перед самим крутым ее спуском вниз к заливу - возвышением или своего рода дополнительным пригорком, с которого вся округа виделась еще лучше, и окружающий простор казался еще более захватывающим.
В ясные дни справа за серебристой гладью залива золотом блистали купол Исаакиевского собора и шпиль собора Петропавловской крепости, а пониже - и шпиль Адмиралтейства как младший брат прославленного шпиля Петропавловки. И это незримое присутствие рядом «блистательного Петербурга» тоже добавляло романтический колорит во всю картину, открывавшуюся с горы.
По фарватеру залива вдоль Кронштадта постоянно шли корабли. С разноцветными бортами и палубными надстройками - грузовые. Из было особенно много.
Иногда проплывали и белоснежные пассажирские лайнеры разных размеров - от просто морских до огромных океанских лайнеров.
Хотя тогда в советский период былой Ленинград еще не был излюбленным портом европейского морского туризма на Балтике. И пассажирских лайнеров я видел не так уж много.
Больше было яхт, разных небольших корабликов и катеров да и военных судов.
Движение по фарватеру вдоль Кронштадта казалось издалека оживленным - как по огромной морской улице… И наблюдать за этим морским движением и мечтать конечно же о романтике морских странствий мне было в детстве очень увлекательно.
Вообще простор открывающийся с высокой горы, полукругом нависающей над гладью залива, настраивал и на поэтический лад, и на какой-то особо свободный полет мысли и фантазий - приятно было вольно думать о чем угодно, о самых отдаленных и фантастических вещах…. И разыгравшееся воображение уводило далеко-далеко от реальности с поразительной легкостью.
Наверно о таких состояниях души и сознания и говорится - «витать в облаках…» Действительно - в облаках…
Облака ведь тоже казались особенно близкими с этой горы. И причем любопытно, что чайки, пролетая в ветряную погоду на большой высоте вдоль берега залива, оказывались порой очень близко от меня стоявшего или сидевшего часами на увенчивающем гору в Лимузи большом возвышении-пригорке…
Чайки парили в потоках воздуха у самой горы и как будто не воспринимали ее как близкую землю… Земля для них была далеко внизу под горой на берегу залива где плещутся белогривые волны…
Мне это запомнилось. И всегда казалось удивительным.
Сразу под горой проходила железная дорога - куда-то «на Гдов», как говорили местные жители… Что это был за Гдов такой я конечно в детстве не знал… Но звучало как-то таинственно и по древнерусски это название - Гдов… И по своему тоже завораживало меня.
Далее за топким лугом бежало вдоль самого берега залива и шоссе…
И на самом деле и железная дорога и шоссе тоже обогащали по своему пейзаж в моих глазах тогда - мне как мальчишке увлекательно было следить за всяким движением… Тем более издалека и с высоты.
Конечно я собирал в Лимузи с восторгом ягоды… Начинался этот сбор с земляники в июне, потом шли - малина, черника, голубика… А заканчивалось такое собирательство сбором лесных орехов в конце августа…
О грибах я и не говорю. Грибы с конца июня уже (колосовики) я собирал постоянно….. Каждое утро начиналось с похода по окрестностям деревеньки нашей - «по грибы»…
Но особое и незабываемое удовольствие мое в Лимузи - это рыбалка. Начиналась она скромно - с карасей в деревенском пруду.
Папа с мамой иногда надували на берегу большую десантную резиновую лодку (списанное военно-морское имущество доставшееся одному из наших знакомых, который на время одолжил его нам). Но детей в плавание по заливу на резиновой лодке не брали - слишком рискованно…
Все таки просторы Финского залива напротив Лимузи уже достаточно широки - и если волна и ветер разгуляются бывало и небезопасно и страшновато вдали от берега.
Но потом была куплена своя деревянная, и потому более надежная конечно лодка. И уж на ней на рыбалку стали брать и меня.
С воды и далеко от берега наша гора в Лимузи смотрелась тоже очень поэтично.
А как здорово было с горы этой со смехом скатываться кувырком… Правда после этого развлечения у меня кружилась голова, что бывало уже не совсем приятно.
Любил я и ландыши собирать в лесных оврагах… Часто я находил ландыши чуть ли не по запаху (или так мне по крайней мере тогда казалось) и буквально подкрадывался к ним - как охотник к заветной добыче…
Сбор ландышей превращался у меня в своего рода таинственное священнодействие. Тем более что росли ландыши в тенистых отдаленных и глухих низинах и оврагах где мне бывало одному и страшновато…
И до сих пор ландыши - мои любимые цветы, в которых мне так и видится с детских лет нечто волшебное и в то же время бесконечно нежное и волнующее.
А вообще-то главным в моем Лимузи в детские годы было то, что я в нем почти всегда был совершенно один.
Один я бродил часами по берегу залива, один бродил и в сосновом бору у самого берега, который я очень любил…
Один долгие часы сидел на горе своей над заливом и смотрел на плывущие корабли, на купол Морского Собора в Кронштадте и на черную громаду форта Александра 1…
И мечтал. Мечтал обо всем, что только мог представить - вся жизнь тогда становилась для меня одним бесконечным мечтательством, которое приносило и наслаждение и затаенную грусть одновременно.
Если кто-то захотел бы проверить все что я пишу «на местности» и приехал бы в Лимузи сейчас - он мог бы попытаться обвинить меня в вымысле… И был бы совсем неправ!
Все быстро меняется в пригородах огромного города каким был Ленинград а теперь Санкт-Петербург. Заповедные уголки редко сохраняются в окрестностях таких городов надолго - на многие десятилетия или тем более на века.
Но во времена моего детства в Лимузи все было именно таким как я это описываю, хотя ведь городская черта Ленинграда тогда проходила от Лимузи всего в сорока девяти километрах.
Теперь же в нескольких километрах от Лимузи проходит дамба защитных сооружений оберегающих современный Санкт-Петербург от наводнений (дамба соединяется с береговой линией в районе дер. Бронка), рядом с Лимузи построены многолюдные дачные поселки, вместо небольших лесов местный совхоз устроил обширные пастбища для крупного рогатого скота… И так далее.
Теперь все иначе.
И наверное вообще любая попытка через многие годы увидеть ту или иную местность или район города таким каким некогда видел его писатель в своим рассказе или автор воспоминаний - никогда не бывает особенно удачной.
Лучше посмотреть старые фотографии, прочитать другие старые описания этой местности или района чтобы понять что же «здесь было когда-то» чем самому ехать в этот край или район через много лет и десятилетий чтобы якобы увидеть все «своими глазами».
Все меняется в нашей жизни. И прежнего былого - уже не застать.
Потому такая поездка непременно будет большим разочарованием и немногое прояснит в том - а что же здесь раньше-то было…
Лимузи не были захвачена фашистами во время Великой Отечественной войны - этот район прибрежной полосы залива входил в состав знаменитого Ораниенбаумского пятачка оставшегося в руках Красной Армии и прекрасно простреливался артиллерией с Кронштадта и с фортов.
Фашисты приближаться к берегу залива в этом районе просто боялись из за грозной кронштадтской артиллерии.
Но этнические финны жившие в Лимузи со старых дореволюционных времен в годы Отечественной войны тем не менее пострадали.
Финляндия в первые годы войны воевала на стороне немцев, захватила Выборг и Карелию, довела свои войска до «старой границы» с СССР по реке Сестра в районе Сестрорецка.
И местные финны в Лимузи были признаны неблагонадежными в случае возможного приближения фронта - их с началом войны быстро выселили куда-то далеко вглубь страны.
А дома их моряки вскоре разобрали на стройматериалы и на дрова. Деревушка, существовавшая с ХУ1 столетия, быстро пришла в запустение. В ней были оставлены только русские семьи.
Так и осталось в Лимузи с военных времен всего четыре дома.
Дороги к деревеньке за несколько лет размыло в весеннюю распутицу… Одно время в Лимузи не было даже света. Поля кругом большей частью пустовали.
Но в этом запустении была и своя вольница … И своя поэзия конечно. Это была жизнь на воле и жизнь среди живой Природы.
Жизнь поэтичная и полная своей романтики. Но одновременно и очень одинокая конечно.
Часто мне думалось еще в детстве - а как там в Лимузи зимой… Когда все снегом завалено вокруг одиноких домов и до шоссе где ходят автобусы наверное и добраться трудно по глубокому снегу и по крутому заснеженному спуску с высокой горы…
Но летом в этом оазисе живой природы так близко от огромного города - была непередаваемая красота и свобода, которая мне в годы детства оказалась стихийно близка и нужна чтобы я мог жить и воспринимать всю жизнь так как подсказывала мне моя душа.
И конечно же в Лимузи я впервые и на всю жизнь ощутил и поэзию морских просторов. Море для меня и сейчас - олицетворение красоты и свободы.
Да и на моем Васильевском острове море тоже было близко. Не просто река Нева была близка, а ощущение близости морских просторов я чувствовал в годы жизни в Гавани постоянно.
Мы с мальчишками много времени проводили в сохранившейся с петровских времен Галерной гавани - особой гавани некогда устроенной в первый период существования Санкт-Петербурга для гребных судов. Ее в годы моего детства в народе называли Ковшом.
И действительно узкий канал связывал эту Галерную гавань с самим Финским заливом - и по форме она походила именно на большой ковш.
В галерной гавани тогда была большая пристань лодок и катеров. И там всегда увлекательно было и просто бродить и можно было с успехом ловить рыбу по ее берегам.
Рядом в Гавани был и небольшой пассажирский порт тогдашнего Ленинграда. И мне там тоже было всегда страшно интересно в годы детства.
С его пирса виден был и огромный грузовой порт города откуда нередко выводили приземистые буксиры могучие океанские корабли. Наблюдать за этим было на редкость увлекательно. И романтика моря меня с детства поэтически увлекла и всегда волновала.
--------------------------------------------------------
Таким был Васильевский остров моего детства. Торжественные «парадные» набережные Невы тогда пожалуй не производили на меня особо глубокого впечатления и особого восхищения не вызывали.
Хотя помню что я уже в детстве гордился тем что родился и живу в Ленинграде.
В ранние годы жизни меня более всего влекла к себе - вольница во всем… Вольная природа вольная жизнь когда ты предоставлен самому себе и когда нет над тобой никакого «начальства» что-то приказывающего указывающего и требующего.
И характерно что самого разного рода «начальство» я не люблю и до сих пор. Я этому начальству по старой русской традиции не доверяю.
И с детства любил я и люблю до сих пор вольную ничем и никем не скованную полную стихийной красоты и простора жизнь.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:
Носов Сергей Николаевич. Родился в Ленинграде ( Санкт-Петербурге) в 1956-ом году. Историк, филолог, литературный критик, эссеист и поэт. Доктор филологических наук и кандидат исторических наук. С 1982 по 2013 годы являлся ведущим сотрудником Пушкинского Дома (Института Русской Литературы) Российской Академии Наук. Автор большого числа работ по истории русской литературы и мысли и в том числе нескольких известных книг о русских выдающихся писателях и мыслителях, оставивших свой заметный след в истории русской культуры: Аполлон Григорьев. Судьба и творчество. М. «Советский писатель». 1990; В. В. Розанов Эстетика свободы. СПб. «Логос» 1993; Лики творчестве Вл. Соловьева СПб. Издательство «Дм. Буланин» 2008; Антирационализм в художественно-философском творчестве основателя русского славянофильства И.В. Киреевского. СПб. 2009.
Публиковал произведения разных жанров во многих ведущих российских литературных журналах - «Звезда», «Новый мир», «Нева», «Север», «Новый журнал», в парижской русскоязычной газете «Русская мысль» и др. Стихи впервые опубликованы были в русском самиздате - в ленинградском самиздатском журнале «Часы» 1980-е годы. В годы горбачевской «Перестройки» был допущен и в официальную советскую печать. Входил как поэт в «АНТОЛОГИЮ РУССКОГО ВЕРЛИБРА», «АНТОЛОГИЮ РУССКОГО ЛИРИЗМА», печатал стихи в «ДНЕ ПОЭЗИИ РОССИИ» и «ДДНЕ ПОЭЗИИ ЛЕНИНГРАДА», в журналах «Семь искусств» (Ганновер), в петербургском «НОВОМ ЖУРНАЛЕ», альманахах «Истоки», «Петрополь» и многих др. изданиях, в петербургских и эмигрантских газетах.
После долгого перерыва вернулся в поэзию в 2015 году. И вновь начал активно печататься как поэт и в России и во многих изданиях за рубежом от Финляндии и Германии, Польши и Чехии до Канады и Австралии - в журналах «НЕВА», «Семь искусств», «Российский Колокол» , «ПЕРИСКОП», «ЗИНЗИВЕР», «ПАРУС», «АРТ», «ЧАЙКА» (США)«АРГАМАК», «КУБАНЬ». «НОВЫЙ СВЕТ» (КАНАДА), « ДЕТИ РА», «МЕТАМОРФОЗЫ» , «СОВРЕМЕННАЯ ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (ПАРИЖ), «МУЗА», «ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ», «НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ, «РОДНАЯ КУБАНЬ», «ПОСЛЕ 12», «БЕРЕГА», «НИЖНИЙ НОВГОРОД» . «ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ» и др., в изданиях «Антология Евразии», «АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ1 ВЕКА», «ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПОЭТОГРАД», «ДРУГИЕ», «КАМЕРТОН», «АРТБУХТА», «ЛИТЕРАТУРНЫЙ СВЕТ», «ДЕНЬ ПОЭЗИИ» , «АВТОГРАФ», «Форма слова» и «Антология литературы ХХ1 века», в альманахах « НОВЫЙ ЕНИСЕЙСКИЙ ЛИТЕРАТОР», «45-Я ПАРАЛЛЕЛЬ», «ПОРТ-ФОЛИО»Й (КАНАДА), «ПОД ЧАСАМИ», «МЕНЕСТРЕЛЬ», «ИСТОКИ», «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ БУКВ», « АРИНА НН» , «ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАДВОРКИ» (ГЕРМАНИЯ), «СИБИРСКИЙ ПАРНАС», «ЗЕМЛЯКИ» (НИЖНИЙ НОВГОРОД) , «КОВЧЕГ», «ЛИКБЕЗ» (ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ), «РУССКОЕ ПОЛЕ», «СЕВЕР», «РУССКИЙ ПЕРЕПЛЕТ» в сборнике посвященном 150-летию со дня рождения К. Бальмонта, сборниках «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛУБИ(К 125-летию М.И. Цветаевой), «МОТОРЫ» ( к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского), «ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА» (Альманах стихов и рассказов о Любви. «Перископ»-Волгоград. 2019) и в целом ряде других литературных изданий.
В 2016 году стал финалистом ряда поэтических премий - премии «Поэт года», «Наследие» и др.
Является автором более 15-ти тысяч поэтических произведений. Принимает самое активное участие в сетевой поэзии.
Стихи переводились на несколько европейских языков. Живет в Санкт-Петербурге.