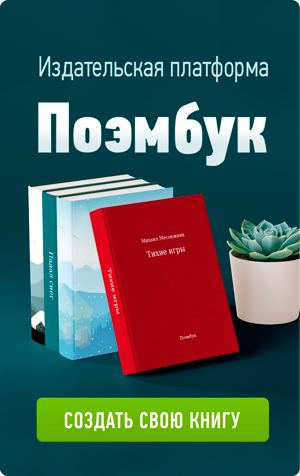Юровская быль. Глава 11. Часть 1. Игрушки Лёнькиного детства
Глава одиннадцатая
Игрушки Лёнькиного детства
1945 год. Прогремели исторические тридцать залпов салюта Победы! К юго-востоку от деревни Юрово, что в двадцати километрах от Центра Москвы над столицей периодически возникало разноцветное зарево в пол неба. В перерывах между залпами из тысячи орудий по ночному небу начинали быстро, быстро мелькать и бегать многочисленные лучи прожекторов, которые внезапно сходились в одной точке неба, и также неожиданно начинали разбегаться во все стороны из этой яркой точки.
Захватывающее зрелище постоянно меняющейся картины на небе из пронзительных лучей прожекторов осталось в Лёнькиной памяти на всю жизнь. Все жители деревни от мала до велика высыпали на улицу и при каждом новом возникающем зареве над Москвой кричали во всё горло мощное «Ура!» Нынешние салюты, без увлекательной захватывающей дух поднебесной игры света от прожекторов, потеряли изюминку и зрелищность. В пятидесятых годах в связи с массовым поступлением на вооружение Войск ПВО страны радиолокационных станций орудийной наводки и другой техники Прожекторные войска утратили своё былое значение и были расформированы.
Началась послевоенная обыденная жизнь в подмосковной деревне Юрово с трехвековой историей. Заметных перемен в деревне после войны не случилось. Жизнь продолжалась неторопливая, полуголодная с продуктовыми карточками на хлеб и показом трофейных кинофильмов по воскресным дням в Колхозном Доме.
Какие могут быть игрушки у пятилетнего деревенского мальчишки? Угадали правильно и с одного раза: наган, сабля, ружьё. Настоящий лук и стрелы. Игрушки сделал своими умелыми руками Ленькин дед Алексей Осипович Никифоров, который трудился до войны, во время войны и после войны Председателем подмосковного колхоза имени 1905 года. Сам колхоз организовал, сам придумал название. За разумность в принятии решений и справедливость дед после войны получил деревенское прозвище – Рузвельт. (дядя Лёня - Рузвельт, дядя Серёжа - кнопка, Сашка-комиссар, Мишка-Сапун, дядя Саша-Аршин, дядя Петя-Порей и т.д. почти у всех в деревне были прозвища)
Ленька благодарен деду за то, что тот научил в пятилетнем возрасте обращаться с молотком. У деда в мастерской стояло полное ведро гнутых разного размера гвоздей. В деревне во время и после войны каждый гвоздь на вес золота. Дед научил правильно выпрямлять гвозди. В каждом деле есть свой маленький секрет, которому дед обучил Леньку. Конечно, первое время попадал больше по пальцам, чем по гвоздю, но норму, которую дед устанавливал на день всегда выполнял и не жаловался, что молоток кривой и лупит по пальцам.
Редкая похвала деда самая большая награда для Лёньки. (От матери похвалы не заслужишь - там постоянные нравоучения со ссылкой на поговорки и пословицы, отец-молчун)
Все выпрямленные гвозди разложены у деда в специально изготовленном ящике с перегородками для каждого типоразмера. Порядок и с инструментами, которые лежали в строго определённом месте. Дед начитан и любил повторять, что порядок освобождает мысль. Политическим кумиром для него оставался Плеханов Г. В. - марксист.
Известно, что для изготовления настоящего боевого лука хорошо подходит упругий ствол молодой черемухи. Конечно, идеальный случай - молоденький дубок, но дубы в районе деревни Юрово извели под чистую хозяйственные и простые мужики ещё до Октябрьской революции. О дубах-колдунах остались воспоминания стариков и ещё затейливое название местности, где росли вековые деревья - «Задуби».
Для изготовления разящих наповал стрел годилась прямая тонкая поросль орешника. Для изготовления тетивы самый подходящий материал - рыболовная леска. Наконечник стрелы – использованное сестрой ученическое перо номер 86, которое привязывалось суровой ниткой к стреле. И берегись, вороньё! Однако умное вороньё за версту облетало маленького опасного человечка с боевым луком.
- Мне сверху видно всё, ты так и знай, - издевательски каркали мудрые от долгой трудной земной жизни разбойницы и махали Лёньке с небес серым крылом. Будь здоров пацан!
Ленька гордился своим арсеналом и через низенький деревянный забор хвастал соседям своим ровесникам Витьке и Женьке Новиковым, не понимая по малолетству глупому и жестокосердному, что приносит страдания душам ребят, отец и дед которых погибли в самом начале войны.
Для Витьки и Женьки некому мастерить игрушки. Баба Груня нарожала пять девок, которые понимали толк только в самодельных куклах.
Ленька любил прихвастнуть перед соседями лепешками, которые аппетитно пекла мать по только ей известному рецепту из мороженой картошки, выкопанной по весне на колхозном поле. В послевоенные голодные времена осенью после того как колхозники убирали с поля картофель и полностью сдавали государству, на картофельное поле заходить жителям категорически запрещалось. Поле охраняла до "белых мух" вооруженная берданкой "Башилиха". Башилиха нелюдимая колхозница, у которой погиб на фронте муж, и которая одна воспитывала двенадцатилетнего пацана Борьку. (Воспитала хорошо. Борька окончил с красным дипломом МАИ и трудился конструктором в КБ "МИГ".) Деревенские знали характер партийной Башилихи, которая могла пальнуть дробью в нарушителя.
Почему не разрешали понять трудно потому, что ранней весной, когда сходил с поля снег, всем жителям позволялось выходить в поле в выходной день и собирать оставшуюся мороженую картошку. Все жители деревни бросалась в поле, и брали на удивление много мороженого картофеля. Скорей всего это была маленькая хитрость Председателя колхоза и колхозников, собиравших осенью картофель. Сдавать приходилось сто процентов урожая, не оставляя его на трудодни. Из этой «сохранившейся чудом» мерзлой картошки пекли лепешки вкуса необыкновенного, как казалось Леньке, да и не только ему. Это было выживание!
Продолжение следует.