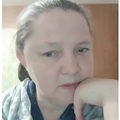Падший
Будто птицу подбитую, ветер меня несёт
над притихшей землёй, и роняет ничком на плиты.
Пара сломанных крыльев и принципы – вот и всё,
что осталось от тьмы, жаром адских костров расшитой,
от державы свободы, построенной на костях
и по-братски отмеренной боли, любви и злости…
Бред, но мне ещё кажется – искры от них летят,
чёрных перьев коснувшись, вонзаются в плоть, как гвозди,
сверху смотрит твой лик – безучастен, печален, строг –
сквозь меня, на меня, на потёки багрово-алым...
Что поделать, отец: ты же знал, что твоих дорог
мне окажется так безнадёжно, безбожно мало.
Привкус крови смакую – вот это и есть ответ:
против правил восстав, рушась с неба звездою ранней,
как подумать я мог, что останется только свет –
после всех этих козней, сомнений и злодеяний,
споров, поисков правды в тебе, и себя – в себе,
после нимба и благости, в дар принесённых людям…
Да, горячность и знание – корень вселенских бед,
проще цвиркать беспечными пташками – но не будем
ставить знаки подобия между безмозглой тлёй,
горстью мяса и жил – и твоим отраженьем, боже!
Я горел и летел, в сердце раненый, над землёй,
знать не зная: она мне теперь всех небес дороже.
Что любовь всё дурное во мне обратит в цветы,
с огрубевших от горечи губ вновь сорвётся слово –
за пределом надежды, за пропастью немоты –
и, лучась, воссияет, как солнце, над миром новым
и его демиургом… Вот только тогда о ком
столько сказок и ужасов память хранит людская?
«Искуситель и лжец, что гордыней своей ведом!» –
боже глянет построже, и я со слезой раскаюсь…
Но склонись я, солги – ты узнал бы меня во мне?
Сам поверил бы в то, что червяк тебе равным станет?
Я твой раб? – растопчи, и закончим. А если нет –
я твой сын, нужный винтик в твоём генеральном плане.